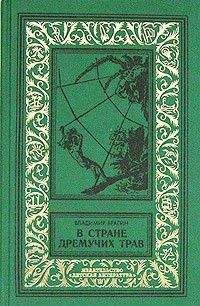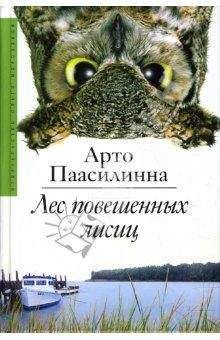Константин Тарасов - Погоня на Грюнвальд
За Червинском была еще одна водная преграда – Дрвенца. Но летом она мелела, были броды, и хорошие, особенно близ Кужентника. Тут уж никаких хлопот – только ноги замочишь. А после Дрвенцы старая прямая дорога вела в Пруссы, к твердыне, к оплоту ордена, к трем его красным каменным замкам, прикрытым каменной трехсаженной высоты стеной. Там гнездились белые плащи, там рядили, как измолоть Польшу и Великое княжество, оттуда выправлялись они на Жмудь и Литву, и пока они там, говорил Ягайла, покоя и мира нам не будет. «Верно, брат Витовт, ведь ты знаешь их лучше моего?» «Оба знаем неплохо»,– отвечал князь. «Ну, ты там жил, а я не был. Вдруг придется осаживать, возьмем ли замок?» «Если бог даст, побьет чумой! – говорил князь.– Иначе нет». Все это были шутки, про осаду и думать не приходилось, осады Мальборка великий магистр допустить не мог. Зачем? Чтобы Ягайла и Витовт разорили, пожгли все городки, смели все мелкие замки, оставили пустыню, посреди которой будет стоять осажденная столица, куда из бомбард и самострелов полетят дохлятина, мешки с дерьмом для истребления рыцарства не мечом, а заразой? Нет, нельзя Ульрику фон Юнгингену уклоняться от битвы. Выведет свои хоругви, встретит – и жестокая грянет битва, сто тысяч мечей засверкают, застучат, попьют крови.
На том и окончили тайный свой съезд. Обо всем не рассудишь. Дай теперь бог дожить до лета, исполнить то, что наметили: рыцарей нанять, свои полки приготовить, герольдов с подарками разослать по разным королевским дворам, оружие наковать, избежать войны на границах, назапасить еды и кормов. А уж как в поле биться – дело божье.
И утомленные, довольные собой, король и великий князь восьмого дня декабря покинули Брест, направились в Каменец, в Беловежу – охотиться.
МАЛЬБОРК. 8 ДЕКАБРЯ
Великий магистр сидел перед камином, уставясь в огонь, пожиравший березовые плахи. Иногда Юнгинген шевелил дрова кочергой – взрывалось пламя, взлетали искры, волной жара ударяло в лицо, и утренний сумрак на мгновения разбегался по углам и под своды, откуда вновь оползал по стенам, когда пламя темнело. Редко Юнгинген подбрасывал в костер новое полено и завороженно следил, как облизывают его языки огня, скручивается и ярко сгорает береста, легко дымит влага и высушенное, белое, словно раскаленное, дерево вдруг вспыхивает, обугливается, превращаясь в золу и пепел – в ничто.
Мысли же Юнгингена относились к неотложности разговора со свеценским комтуром Генрихом фон Плауэном, специально вызванным в Мариенбург, но прибывшим, как назло, накануне праздника. Какое-то глубокое сомнение мешало Юнгингену начать этот разговор. Сомнение возникло у магистра на заутрене в часовне, когда он, поднимаясь с колен после молитвы, увидал возле себя фон Плауэна и поразился твердости его взгляда. Ульрик фон Юнгинген мучился вопросом: не следует ли отнести неприятную беседу на будний день, а сегодня, в день праздника пресвятой девы Марии, заступницы и охранительницы Тевтонского ордена, не лучше ли держать в замках Мариенбурга ясную тишину умиления?
Но обмануть себя не удавалось, и великий магистр в ожесточении подумал, что не тот угоден богу, кто простаивает перед иконами с восхода до заката, первым бежит в церковь, последним покидает ее, постится, крестится, шепчет господу о своей любви. Нет, не он праведник. Ибо что господу от веры, озабоченной лишь собственным спасением? Только тот угоден господу, кто действует ради его славы, старается и о сохранении других душ. Жизнь Иисуса Христа сама являет пример постоянных трудов. Он не знал дней праздности в проповеди своего слова.
Да, можно было бы закрыть глаза на ночные бдения фон Плауэна, будь ясна и понятна мера исходящей от них беды. Но если человек покушается получить сатанинское знание, золотые россыпи и бессмертие, то налицо не простой грех, доступный искуплению, как грех блудодействия. Это – ересь. А среди братьев ордена не должно быть еретиков. Когда во всех странах Европы искателей философского камня, дерзающих уподобиться господу и превращать воду в вино, свинец в золото, свою старую плоть в молодую, непреложно и безотлагательно передают палачу, орден не может терпеть подобное зло у себя. Не вправе. Малый грех обязательно приводит к большому. Ну зачем фон Плауэну философский камень, дающий вечную жизнь, если сам Христос принял смертную муку на кресте, утвердив обязательность смерти? О ненасытное честолюбие! Долг великого магистра – удержать брата, заскользившего в бездну ереси.
Но и вся бессмысленность разговора с комтуром виделась Юнгингену наперед. Плауэн назовет доносы слуг клеветой, тревогу великого магистра – напрасной, заботу – излишней, и что с ним делать? А вернувшись в Свеце, ком-тур накажет слуг, заменит ненадежных, и вновь в подвалах замка по ночам будет гореть печь, булькать в горшках и колбах зелье, и брат Генрих будет возноситься в пустых мечтах над братьями, орденом, церковью к пределам вымышленного могущества и славы. Несчастье глупости, подумал магистр. Что-то в фон Плауэне раздражало его с такою силой, что он не мог думать о нем здраво и снисходительно. Добиться правды было нельзя и не нужно, но хотелось осадить Плауэна, поглядеть, как, давя самолюбие, он будет изворачиваться и лгать. Отметая сомнения, Ульрик фон Юнгинген велел позвать комтура к себе.
Скоро дверь отворилась, и рослый рыцарь, одетый в белый орденский плащ, пружинистой походкой вошел в зал.
– Ты хотел видеть меня, брат Ульрик?
– Да, брат Генрих. Садись.
Великий магистр пошевелил кочергой поленья и сказал:
– Люди поддаются соблазнам любых желаний – одни по врожденной порочности, другие по слабости. Но рыцари ордена всегда преданы долгу. Долг исполнения божьих заветов – наше вечное и самое сильное желание...
Плауэн согласно кивнул, пытливо вглядываясь в лицо магистра.
Этот проницательный взгляд холодных голубых глаз показался фон Юнгингену дерзким. Он сказал:
– Во Франции занятие алхимией запрещено под страхом смертной казни уже тридцать лет. Всякого, кто нарушает этот запрет, вздергивают на виселице, покрытой позолотой. Недавно такой же закон объявил король английский. Орден окружен врагами, множество недоброжелателей всегда готовы порочить нас в глазах христианского мира. И нам невыгодно, если станут говорить, что мы благосклонны к людям, отвергающим запреты церкви...
– Разве мы благосклонны? – спросил Плауэн.– У нас в Пруссии мне не известен хотя бы один адепт алхимии.
– А мне, брат Генрих, известен,– возразил великий магистр.– У тебя в замке, в бывшей пивнице, по ночам пылает в печи Огонь, а в шкафах стоит все то же самое, что отнимают у тех, кто стремится превратить в золото свинец. И в этом подвале, брат Генрих, ты проводишь ночи...
Плауэн слушал магистра с чувством презрения. «Если ордену суждено когда-либо погибнуть,– думал он,– то погибнет он по вине слабодушия великих магистров. Ульрик фон Юнгинген сменил Конрада фон Юнгингена. Мелкие властолюбцы, убогие фарисеи! Власть при робости духа всегда приводила к беде. В тяжкие дни ордена подсматривать в замочную скважину! Для таких ли забот братья избрали тебя великим магистром? Или, брат Ульрик, ты стал считать себя, подобно папе римскому, наместником бога на наших землях, единственным хранителем истины и ответчиком перед девой Марией? Какая рьяная забота о чистоте веры! Уж, верно, ты свои ночи храпишь в постели...»
– Какие-то загнанные в колбу красные и зеленые драконы,– говорил магистр.– Пожирающие драконов львы. Души планет. Ртуть и сера. Сера! – повторил он многозначительно и воскликнул: – Зачем?! Ради золота? Зачем золото братьям ордена, давшим обет нищеты? бессмертие? Им наградит господь в день страшного суда...
«Невежда! – думал фон Плауэн.– Слышал звон. Читал древние рецепты, да не проник в тайнопись. Как еще удержался промолчать о невинных младенцах, не поплакать над бедными малютками? А сколько младенцев рыцари и кнехты сожгли вместе с хатами, порубили мечами – это не грех? Фарисеи! Бедность, судный день... Свою зависть именем девы небесной прикрываешь. Не вечная жизнь и золото, а страсть счастья,– вот что влечет к ретортам, тайна огня, возвращающего королевский венец низкому металлу. Пусти тебя в подвал – ничего не увидишь, а что увидишь – не поймешь. Избранные люди отдавали свои ночи алхимии. Альберт Великий, Роджер Бэкон, сам Фома Аквинский, говорят, любил глядеть, как совершается в колбе чудо аурифакции. Но знание, данное избранным, не дается людям тьмы. Как язычнику непонятно слово Христа, так невежде невнятен язык высшего искусства. Бог сам избирает души для открытия себя во всех экзистенциях...»
– Ты молчишь, брат Генрих,– настойчиво сказал великий магистр.– Как понять твое молчание?
– Да,– кивнул Плауэн,– молчу. Мне скорбно. Мне скорбно, что мы не душим клеветников. Иначе нас когда-нибудь уничтожат, как во Франции уничтожили тамплиеров. А что взяли предлогом? Обвинение в черной магии и колдовстве. При желании можно послать на костер любого аптекаря или ювелира – у них тоже есть печи, ступы, тигли...