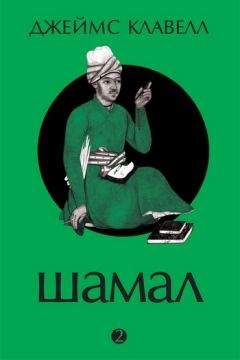Владимир Митыпов - Долина бессмертников
— Туманность Андромеды… — мечтательно протянула Лариса. — С ума сойти, какие названия — сплошная поэзия! Самое грустное, что в городах звезд мы почти и не видим. Я не знаю: то ли свет фонарей забивает, то ли нет времени посмотреть на них…
— Живем, не глядя на звезды… — буркнул поэт.
— Что-что?
— Я говорю, слишком уж деловые мы стали. Мечтатель — у нас чуть ли не ругательное слово. Помнишь, у Грибоедова: „И прослывет у них мечтателем, опасным…“ Сейчас это прозвучало бы так: мечтателем, никчемным… Что поделаешь — век практичных людей…
— Чудак ты. Ну, ладно, распрощаемся до утра. Спокойной ночи!
— „Но в небе Нгер-Нумга всю ночь стоит, и путь твой еще не начат…“ — пробормотал Олег.
— Это твои?
— Где уж нам, — вздохнул он. — Это из якутской на родной поэзии.
И, не сказав больше ни слова, он повернулся и торопливо, почти бегом направился к себе.
В палатке было темно, знобко, неуютно. Не зажигая огня, поэт некоторое время сидел на раскладушке, уткнувшись лицом в ладони. Знакомый холодок стоял под сердцем. В голове — тишина и оцепенение, как перед ударом гонга. „Мы идем по Уругваю-ваю-ваю!“— залихватски крикнул было кто-то внутри, но другой голос оборвал коротко и зло: „Прочь!“
Вторая половина ночи…
Единственный звук — порхающий треск кузнечиков… Что это им не спится?
Минуты наливаются, как капли, набухают, потом отрываются и беззвучно падают в вечность…
Поэт машинально достал сигарету, прикурил, зажег свечу…
Безразлично, как это назвали бы другие: воображением, наваждением или самообманом; важнее всего сейчас было вот это — сквозь мрак ночи и еще более кромешный мрак веков к нему уверенно и неторопливо приближался на своем потемневшем от пота песочного цвета иноходце молчаливый старик — князь Бальгур…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Дорога учит ценить здоровье, чужбина — соплеменников. За все время пребывания у юэчжей Модэ ни разу не встретил ни одного хунна. Не было их ни среди невольников, выполнявших черную работу, ни среди чужеземных воинов, добровольно перешедших к юэчжам, и ни одно посольство из Хунну не появилось за это время в ставке Кидолу. Поэтому одновременно и ужас и радость охватили Модэ, когда передали ему слова князя Кидолу: „Если сын брата моего, шаньюя Туманя, хочет увидеть лица своих земляков, пусть придет в мою юрту“.
Более года прошло с того дня, когда он впервые предстал перед Кидолу.
— Сын Туманя — мой сын! — объявил ему тогда престарелый вождь юэчжей. — Знай же, что если хунны нарушат пограничные межи, я должен буду принести в жертву духам самое мне дорогое, дабы они ниспослали победу и мир. А ты мне очень дорог.
Поскольку лицо юного заложника не выразило никаких чувств, Кидолу счел нужным разъяснить:
— Тебе отрубят голову, сын мой.
Но и после этого Модэ продолжал взирать на князя с полнейшим безразличием.
— Да, отрубят голову! — раздраженно повторил Кидолу и велел увести заложника, решив про себя, что Тумань порядком надул его, подсунув своего умалишенного отпрыска.
Кидолу не мог знать, что жить под постоянным страхом смерти Модэ привык с того самого дня, когда внезапно и в жесточайших муках умерла его мать. Сердобольные старушки из числа ее прислужниц тайком нашептали ему, что ее отравили, и, всё удивляясь, как это остался жив он, советовали остерегаться. Постепенно Модэ стал понимать, почему во взглядах князей появлялось нескрываемое изумление, когда они видели его на Советах, и что означало радостное облегчение, которое всегда ясно читалось на лице старого Бальгура при встречах с ним.
Кидолу получил странного заложника. Целыми днями Модэ сидел подле отведенной ему юрты и смотрел в ту сторону, где лежали хуннские земли. Любой всадник, скачущий оттуда, мог оказаться вестником смерти, но лицо заложника оставалось неизменно безучастным. Кое-кто потехи ради пытался с ним заговаривать, однако, встретив пустой, не выражающий никаких мыслей взгляд и наткнувшись на каменное безмолвие, отходил ни с чем. Очень скоро все решили, что он действительно сошел от страха с ума, и оставили его в покое. Вот только неслыханно ранняя седина его могла бы поведать проницательному человеку, какие чувства таятся в пронизанной смертным холодом душе юного заложника, но Модэ даже на ночь не снимал свою вытертую рысью шапку.
Рано или поздно его все равно убыот — с этим Модэ примирился, но, проснувшись утром, он первым делом начинал убеждать себя, что до полудня ничего не случится и это время можно жить спокойно. В полдень он то же самое загадывал до вечера, вечером — до утра. Вот так, шаг за шагом, он отгонял страх смерти, чтобы и в самом деле не потерять рассудок.
Угрюмо кивнув в ответ на приглашение в юрту Кидолу, он, дождавшись, пока останется один, вынул три кости, последние из выигранных когда-то у Бальгура. Потряс их в ладонях, бросил на утоптанную землю возле огня. Выпали два „коня“ и одна „свинья“. „Свинья“ ему не понравилась, но целых два „коня“ придали бодрости. Он спрятал кости и вышел из юрты.
Ясная, мерцающая звездами ночь стояла над темными холмами и равнинами юэчжской земли. Ржали невидимые табуны, брехали собаки, висели в пространстве купно и поодиночке красные огоньки отдаленных костров, непонятно откуда тянулся, словно нить из бесконечного клубка, жутковатый и завораживающий волчий вой.
В сопровождении двух воинов Модэ приблизился к огромному черному горбу юрты Кидолу. Изнутри доносились то непонятные чужеземные слова, то резкий голос князя. Модэ напряг слух, но хуннской речи слышно не было.
— Сын Туманя — мой сын! — громко воскликнул Кидолу, увидев его. — У этого огня тебя всегда ждет место. Эй, слуги, налейте моему сыну подогретой водки! Подайте ему жирную пищу!
Присутствовавший толмач перевел сказанное людям непривычного облика и в странных одеяниях. Видимо, князь пировал сегодня с послами или с влиятельными чужеземными купцами.
Кидолу был глубокий старец, но жилистый, крепкий, с узким коричневым лицом, покрытым беловатыми шелушащимися пятнами. Глаза его, круглые, с желтыми белками, всегда блестели, словно полные слез. Он говорил властно, двигался быстро, в седле держался по-юношески прямо. Модэ не раз слышал, что, несмотря на свои годы, князь мало кому уступает в искусстве владения мечом, ценит хорошее оружие и знает в нем толк, что нигде, откуда и куда только доходит молва, ни у кого нет лучших лошадей, чем у юэчжского властителя. Имелась у него и еще одна слабость — пиршественные чаши…
За спинами пирующих мелькали слуги, бесшумные и темные, как тени. Сами собой возникали и исчезали чеканные блюда с мясом, овечьим сыром, жареной птицей, свежими и вялеными фруктами.
Вот Кидолу выпрямился, шевельнул бровями. К нему мгновенно подплыли и замерли на руках коленопреклоненных виночерпиев четыре больших подноса с чашами. Старик окинул их любовным взглядом. На лице его появилась мечтательная улыбка.
— Да, нет в мире ничего прекраснее, чем такой удар меча, после которого твой противник сидит в седле, как и сидел, но уже без головы… Мне было немногим больше, чем ему сейчас, — он указал на Модэ, — когда я таким вот ударом добыл голову лэуфаньского военачальника и сделал из нее свою первую чашу. Вот она!
Кидолу поднял чашу, оправленную черненым серебром.
— А эта, — взял он в руки другую, — самая почетная. Она из черепа отца хуннского князя Гийюя. Он тоже был западный чжуки, а уж разбойник такой, что сыну далеко до него… Смотрите, оправа золотая — князь должен чтить высокое происхождение другого князя… Если брат мой, шаньюй Тумань, захочет нынче подарить мне новую чашу и преступит пограничные межи, то череп его сына, сидящего здесь, конечно же будет оправлен в золото и вдобавок украшен дорогими самоцветами, ибо он не просто князь, а наследник шаньюя!
Выслушав толмача, чужеземцы с любопытством посмотрели на юного заложника. Кидолу повернулся к Модэ и протянул ему золотую чашу:
— Я хочу, чтобы сегодня ты пил из нее!
Модэ принял, отпил и все с тем же безразличным видом продолжал слушать горделивые речи вождя юэчжей, но в затылке вдруг появилось такое ощущение, будто приставили холодное лезвие меча. Зачем старик позвал его? Может, хунны совершили-таки набег?
О чем-то говорили гости, улыбаясь и часто прикладывая руки к груди, и толмач, склонившись к уху князя, вполголоса переводил их слова. Кидолу, пригасив веками острый блеск глаз, слушал, одобрительно кивал. Когда толмач умолк, он повернулся к Модэ:
— Сын мой, узнал я, что в сердце твоем поселилась тоска по дому. Это опечалило меня. Но, возможно, тебе станет легче, если ты увидишь лица своих земляков, сын мой?
Кидолу повел рукой в глубину юрты. Драгоценные камни его многочисленных перстней замерцали вспышками зеленых, голубых и фиолетовых огней, словно предвещая нечто столь же яркое, радостное и искрящееся.