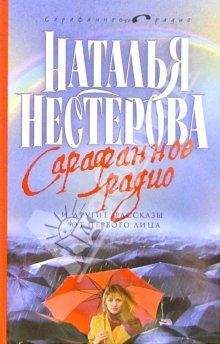Наталья Нестерова - Жребий праведных грешниц. Возвращение
Наверное, недостойна.
Блокада
В августе, когда еще о холодах не думали, да и беспечно рассчитывали на центральное отопление, Марфа притащила домой печь-буржуйку, вывела трубу от нее в форточку. Через несколько дней пришел пожарный инспектор, пригрозил оштрафовать и велел немедленно убрать пожароопасное сооружение. Так Марфа его и послушалась! В ноябре, когда буржуйки массово изготавливали из железных бочек, из любого металла, из противней для пирогов (а у Марфы была чугунная! С плитой!), тот же самый инспектор попросил ее научить соседей, как правильно устанавливать и топить буржуйку.
Урожай с Марфиного огорода пропал, то есть пока она окопы рыла, урожай сняли и умыкнули. Кто своровал, она знала – хозяйка, в подполе дома которой Марфа хранила на зиму овощи.
– Не отдашь, – заявила ей Марфа, – спалю! У тебя же корова! А у меня пять ртов и еще один на подходе. По карточкам мизер получаем.
Тетка была не из пугливых, но жадная до крайности, бездетная, проживала вдвоем с мужем, якобы инвалидом, на войну не призванным. К ее дому тянулись люди с Крестовского покупать продукты за неимоверные деньги, за драгоценности.
По лицу злой Марфы тетка поняла – спалит, и выволокла два мешка: один с картошкой, второй с капустой и брюквой. Хоть что-то, то есть немалое подспорье.
Марфа отличалась от большинства ленинградцев: старых петербуржцев и тех, кто из селян быстро превратился в горожан, привыкших к тому, что тепло и вода сами приходят в дом, что в магазинах на витринах и прилавках продукты лежат. Сибирская закваска Марфы, давно покинувшей село, никуда не делась: рассчитывать нужно только на себя. Ни на правительство, власти, на участкового или пожарного инспекторов, на доброго дядю или царя небесного. Только на себя! И ты обязана жилы рвать, чтобы семейство не погибло зимой.
Камышиным Марфина беличья суетливость и запасливость поначалу казалась нелепой, они даже подозревали Марфу в некоем повреждении ума.
Однако в середине сентября, когда кольцо Блокады уже сомкнулось, Александр Павлович, теперь редко бывавший дома, приехал, вытащил из кармана пальто узелок – носовой платок с тремя горстями пшенной крупы:
– Все, чем могу вас порадовать. Марфа, у тебя ведь припасены продукты?
– Дык кое-что.
Она насупилась, испугалась, что Камышин попросит отстегнуть для кого-то.
– Умница! – Он обнял ее, но без чувственности, а только с человеческой благодарностью. – Ты у меня большая умница! Корми их минимально. Тебе понятно, что такое «минимально»? Экономно, чуть-чуть, только чтобы ноги не протянули. Идет страшный голод. Никому про это не говори, только сама знай: мы в осаде, в городе нет хлеба, и возможности его доставить тоже нет. Поняла?
– Дык уяснила.
Камышин был из узкого круга лиц, которые представляли, какое страшное испытание надвигается на ленинградцев. В этот круг он попал, благодаря знакомству с наркомом торговли РСФСР Дмитрием Васильевичем Павловым – другом его, Камышина, старшего брата, репрессированного в затухающем на репрессии тридцать девятом году.
Павлов, направленный в Ленинград Государственным комитетом обороны, разыскал Камышина, вызвал в Смольный, сказал, что надеется на него как на верного партийца. Они должны заняться вопросами продовольствия.
Камышин вспылил:
– Я инженер! Мое дело сейчас танки и снаряды на фронт поставлять. А за станками стоят сопливые подростки-школьники, девчонки болванку поднять не могут. Видели бы вы, как они стараются! По двенадцать часов в цеху…
– Ты на меня не ори, Саша! Ты мне не тычь героизмом! – Дмитрий Васильевич покраснел, сдерживая собственное желание заорать. – У нас вся страна сейчас – один сплошной героизм. Этот великий город, – развел руками и потыкал в пол, – погибнет, уже погибает от голода!
– Потому что сгорели Бадаевские продовольственные склады?
– Нет. Там хранилось всего три тысячи тонн муки и две с половиной тысячи тонн сахара. Это на полтора дня муки и на три дня сахара. Ленинград всегда жил с колес – привезли, съели. Тут нет запасов. Понимаешь, ослиная голова? Нет запасов продовольствия! И миллионы людей! А ты мне про танки и снаряды. Слушай меня внимательно. Я создаю специальные отряды, которые пропашут весь Питер от чердаков до подвалов, от заброшенных складов до вагонов на запасных путях в поисках того, что можно принимать в пищу. Для руководства этими отрядами мне нужны верные командиры-ленинцы. Я на тебя рассчитывал.
– Что нужно делать? – поднялся и спросил Камышин.
Их команды разыскали восемь тысяч тонн солода на пивоваренных заводах, пять тысяч тонн овса для лошадей в интендантстве и четыре тысячи тонн хлопкового жмыха в порту. Жмых считался непригодным для еды, им печи корабельные топили. Хлопковый жмых содержал ядовитое вещество – госсипол. Дмитрий Васильевич Павлов усадил питерских ученых за исследования: ищите, как хлопковый жмых можно обеззаразить. Ученые обнадежили: при высокой температуре госсипол разрушается.
Камышин подбросил идею: за долгие годы на стенах мукомолен, на потолках осела и припечаталась мучная пыль. Это ведь тоже съедобное. Соскребли стены и потолки, вытрясли каждый завалявшийся мешок – хоть горстки, да выбили.
Мужики, водолазы и просто добровольцы, что поднимали из ледяной воды с затонувших на Ладоге барж мешки с зерном, навеки потеряли здоровье. Подыхали, но поднимали.
Камышин никогда подобного не видел и не предполагал в людях подобной жертвенности. Он, натуралист, технарь, отчасти циник, всегда считал, что неразумное большинство аморфно, что его нужно привести к благоденствию (приведут избранные, вроде него самого) по мере промышленного развития. Прогресс техники был для Камышина религией.
А теперь ему, очумелому от голода, усталости и бессонницы, подносят к губам оловянную кружку:
– Примите, Александр Павлович! Наболтали из того, что по земле на складе наскребали. Грязь осела, но еще тепленькое, пейте! Только вот какая загвоздка. Кони-то наши пали, их пилят-режут сейчас жители. Страх смотреть, а отогнать бессовестно. Кони-то неспособные уже были обоз вести. Грузовиков, случай, не предвидится?
– Нет. Впряжемся сами. Помните куда?
– Известно, в пекарни.
Все, что они находили, свозилось в хлебопекарни. Домешивалось к настоящей муке. Ее становилось все меньше и меньше, а люди, отоваривавшие карточки, стояли в очереди по многу часов. Люди умирали от голода.
Первыми – дети и старики. Из детей первыми – мальчики, из пожилых – мужчины. Девочки и старухи почему-то дольше тянули.
Камышин, истощившийся до скелетности, уставший до обмороков, был свидетелем, как Павлов расцеловал в губы Николая Смирнова – технолога, придумавшего заменитель масла, которым смазывали формы для выпечки хлеба. Благодаря этому изобретению ежедневный расход жиров уменьшился на две тонны.
Самому Камышину недостало порыва так же горячо поблагодарить командира отряда, обнаружившего в ленинградском порту две тысячи тонн бараньих кишок. Из них стали варить отвратительного вида и запаха студень, который выдавали по карточкам вместо мяса.
В ноябре, перед возвращением на завод, Александр Павлович договорился, и Настю, хотя схватки еще не начались, взяли в роддом. Это была большая удача, потому что в роддоме нормы кормления были чуть выше, чем по карточкам для иждивенцев. Кроме Камышина, в эту категорию попадали все: Марфа, Петр, Елена Григорьевна, Настя, Степка. Настя пролежала в роддоме две недели – одну до родов и вторую после. Мальчика, не иначе как на старых материнских запасах набравшего в утробе три с лишним килограмма, назвали Ильей, зарегистрировали прямо в роддоме.
– А Митяй хотел Иваном сына назвать, – вдруг вспомнил Степка, когда мать, навещавшая Настю, вернулась домой.
– Что ж ты молчал, ирод! – всплеснула руками Марфа.
– Да какая разница? – Степка предусмотрительно присел и закрыл голову руками – мать сейчас начнет оплеухи отвешивать.
– Тебе нет разницы! – кружила вокруг него Марфа. Не ногами же пинать ребенка? – Тебе, каторжнику, переселенцу, наплевать на завет брата, который на войну ушел? Как теперь переписывать, варнак?
– Чего переписывать? – из-под локтя проговорил Степка. – Илья даже лучше. Илья Муромец. А Иван – дурак!
– Тут только один дурак, ты! – Марфа села на кровать, придавив больную ногу мужа. Его гыгыканье из веселого перешло в обиженное. – Два дурака, – бросив злой взгляд на Петра, поправилась Марфа. – Отца твоего забыла.
На ноябрьский праздник дополнительно к карточкам детям выдали по двести граммов сметаны и по сто граммов картофельной муки. Взрослым – по пять соленых помидоров. Марфа с ложечки, как маленькому, дала Степке попробовать сметаны. Остальное – Насте, она теперь кормящая.