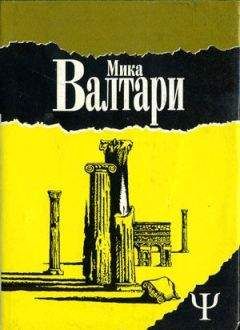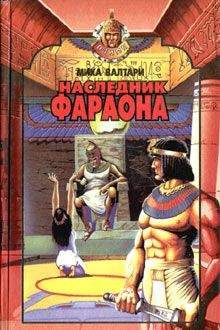Мика Валтари - Турмс бессмертный
С чувством мучительного страха я проснулся еще раз. Я лежал навзничь на своем ложе, все так же скрестив руки на груди. Очнувшись, я осознал, что уже могу пошевелиться. Я сел на краю ложа и спрятал лицо в ладонях.
И тут сквозь духоту благовоний, что клубами плавали в лучах слепящего лунного света, я ощутил стальной привкус бессмертия на языке и стылый запах бессмертия в ноздрях. Холодные огоньки бессмертия мелькали у меня перед глазами, и резкий ветер бессмертия свистел у меня в ушах.
Поборов страх, я вскочил на ноги и крикнул в пустоту моих покоев:
— Я не боюсь тебя, химера! [3] Еще не окончена эта моя жизнь, и я, Турмс, — не бессмертный, а человек, как все.
Я взял глиняную чашу, стоящую у ног богини, и начал вынимать один за другим камешки, вспоминая. И все, что я вспомнил, записал.
3
Общепризнано, что жизнь человеческая делится на отрезки определенной длины. По завершении каждого человек обновляется; меняются также его мысли. Одни говорят, что эти отрезки длятся по пятьдесят пять месяцев, другие — что во всяком из них без пяти месяцев шесть лет. Но такова людская вера, ищущая однозначности во всем, хотя на свете нет ничего однозначного.
Уверенность, которой не может быть, стремится человек обрести в знании. Вот для чего жрецы сравнивают внутренности жертвенных животных с глиняными их подобиями, где указаны участки каждого из богов и написаны их имена. Но жрецы — не боги и могут ошибаться.
Так же и птицегадатели учатся умению стариков понимать полет птиц и птичьих стай. Но когда доводится им наблюдать знак, о котором они прежде не слыхали, тогда, теряя нить, начинают они гадать вслепую, будто с мешком на голове.
А что сказать мне о гадающих по молниям, которые перед грозой поднимаются на священные горы? Разделили они небосвод и стороны света меж богов и толкуют о видах и цветах молний, а законы этой науки передают, гордясь своим знанием, наследникам. Однако заблуждаются они и криво изъясняют прямой и внятный язык молний, не слыша голоса богов в своих сердцах.
Но, раз уж так повелось, оставим это, ибо все застывает, все костенеет, все старится. Хотя до чего же имеет унылый вид знание, когда оно увядает и чахнет! Зыбкое человеческое знание, заменившее разум богов…
Научиться многому можно, только ученость — это еще не знание. Основа истинного знания — врожденная проницательность и желание постичь разум богов. Те же, кто верит лишь себе, осуждены вечно блуждать в потемках.
Но все это я пишу единственно потому, что сам стал старым и успокоился, потому что жизнь для меня приобрела привкус горечи и ничто на земле не зажжет больше страстью мое сердце. В молодости я писал бы иначе — причем это была бы такая же правда, как сейчас.
Раз так, ради чего же я все-таки пишу?
Ради того, чтобы преодолеть бег времени и познать себя самого.
И вот я беру в руки первый камешек, черный и гладкий, и вспоминаю, как впервые осознал себя таким, каков я есть на самом деле, а не каким я видел себя до этого.
4
Это случилось по пути в Дельфы [4], среди мрачных горных отрогов. Еще на побережье видели мы молнии, вспышки которых озаряли вершины гор далеко на западе. Жители же селения, до которого мы добрались, отговаривали нас идти дальше. Стоит ненастная осень, твердили они, и вот-вот грянет гроза. А в грозу на путников может обрушиться камнепад — или бурный поток их накроет и подхватит…
Но я, Турмс, спешил в Дельфы, чтобы дельфийский оракул объявил мне мою судьбу. Ибо вот уже второй раз в жизни избежал я верной гибели, спасенный афинскими моряками, когда жители Эфеса [5] собирались побить меня камнями.
Оттого не захотел я задерживаться по дороге, пережидая грозу. Тем более что местный люд хватался за любой повод предложить толпам проходящих мимо остановиться в селении, этим и живя. Тут путников всегда ожидали сытные кушанья и добрый ночлег, а на память они могли купить всякие пустячки, вырезанные из дерева, кости или камня. Я не стал прислушиваться к предостережениям этих людей. Меня не страшили ни гроза, ни молнии.
Жгучее чувство вины гнало меня вперед, в горы. Я шел один. Вдруг среди белого дня потемнело небо. С горных вершин надвинулись тучи. Засверкали молнии. Удары грома не смолкали над вторящей эхом долиной. Казалось, слух человеческий не выдержит этого страшного грохота.
Молнии крушили скалы вокруг меня. Дождь с градом до крови сек мое тело. Порывы ветра грозили сбросить меня в пропасть. Колени и локти мои были покрыты сплошными ссадинами.
Но я не ощущал боли. Впервые в жизни я испытывал настоящий восторг. Не помня себя, я принялся приплясывать на дороге, ведущей в Дельфы. В грозу, среди ветра, при вспышках молний мои ноги сами собой пустились в пляс заодно с руками, и танец мой не был похож ни на какой другой, он рождался и жил во мне, и все тело мое каждым своим членом плясало, охваченное неизъяснимым ликованием.
Мне бы со страхом ждать кары богов за совершенное мною зло — но вместо этого на меня вдруг снизошло озарение, что я выше этой кары. Молнии, переплетаясь и расщепляясь над моей головой, по-матерински обнимали меня. Буря приветствовала меня, точно сестра. Рокочущий над долиной гром тоже слал мне привет, и в мою же честь обрушивались со склонов обломки скал.
Так я впервые осознал себя и понял, что неуязвим: со мной не случится никакого несчастья и ничто не причинит мне вреда.
Покуда я так плясал на дороге, ведущей в Дельфы, с губ моих слетали слова на чужом языке. Я не догадывался, что они значат, но пел их, повторяя вновь и вновь, так же, как, бывало, в полнолуние, когда я просыпался ночами, выкрикивая слова, которых не понимал. На чужой лад звучало мое пение, чужим был и мой танец… Но все это в невероятном возбуждении выплескивалось из меня, будучи частью меня самого, хотя я не знал, откуда это взялось.
Миновав последнюю гряду скал, я увидел внизу округлую равнину, среди которой стояли Дельфы, хмурую и туманную из-за туч и дождя. В тот же миг гроза прошла, ветер разогнал тучи, и ясное солнце озарило дельфийские дворцы, статуи и святилища.
Осенняя земля искрилась от серебристых капель дождя и тающих градин, и клянусь, нигде я еще не видел такой сочной и яркой зелени, как зелень лавров вокруг дельфийского храма! Без чьей-либо помощи я отыскал священный источник, снял с плеча кожаную дорожную торбу, сбросил промокшую одежду и погрузился в приносящую очищение водную купель. Хотя дождь замутил воды овального пруда, я по очереди подставил под струи, текущие из львиной пасти, лицо, голову, руки и совершил омовение. Обнаженный, я вышел из воды на солнце; все тело мое горело священным восторгом, и я не ощутил холода.
Между тем ко мне уже приближались служители храма в длинных ниспадающих одеждах и с повязками на головах. Я же поднял глаза выше — и увидел черную скалу, которая казалась величественнее самого храма, и черных птиц, что парили после грозы над пропастью. Без подсказок я догадался, что это — место казней, откуда сбрасывали вниз обреченных, чью вину уже ничто не могло искупить. И я побежал к храму вверх по террасам, минуя статуи и памятники и не стараясь держаться священной дороги.
Стоя перед храмом, я возложил руку на могучий жертвенник и воскликнул:
— Я, Турмс из Эфеса, вручаю себя милости богов и прошу суда у оракула.
С фронтона храма смотрели на меня фигуры Артемиды, охотящейся со своими собаками, и обряженного в торжественные одежды Диониса. И я понял, что это — только начало. Служители пытались помешать мне и прогнать меня прочь. Но я вырвался у них из рук и вбежал в храм. Не задерживаясь в первом помещении, я пробежал мимо огромных серебряных урн, мимо бесценных изваяний и богатых даров в глубь храма. Там на скромном жертвеннике пылал негасимый огонь, а рядом, опаленный вековым пламенем, выступал над плитой каменный столбик — пуп земли. [6] Возложив руку на этот священный камень, я вновь отдался на милость богов.
Неизъяснимое блаженство разлилось у меня по ладони и по всему моему существу от прикосновения к священному камню. Без страха огляделся я вокруг. Я видел вытертые каменные ступени, ведущие в расселину скалы. Видел священную гробницу Диониса. Видел орлов верховного бога у себя над головой, в полумраке внутренней части святилища. Я был в безопасности. Тут меня не могли настигнуть служители храма. Войти сюда смели лишь посвященные — дельфийские жрецы, посланцы богов.
Но они уже спешили на шум, поднятые служителями: четверо старцев, исполненных благочестия. На ходу они поправляли повязки на головах и запахивали свои хламиды. У них были хмурые лица и опухшие от сна глаза. В преддверии зимы — а тем более когда только что прошла гроза — они не ждали гостей, и я своим вторжением нарушил их покой.
Однако, пока я лежал, обнаженный, ничком на плитах этого святого убежища, ухватившись за пуп земли, жрецы были против меня бессильны. Да ни один бы и не коснулся меня даже пальцем, не зная, что я за человек.