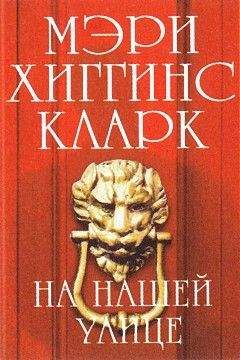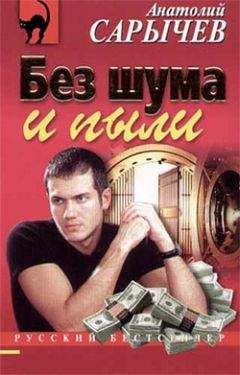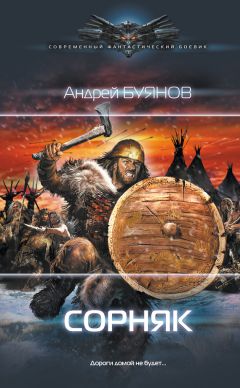Джулиан Рэтбоун - Короли Альбиона
Я уже сказал, что быть мусульманином в Мангалоре вовсе не беда, хотя Виджаянагара вот уже сто лет воюет с мусульманскими государствами, с княжествами Бахмани. Они располагаются примерно в двухстах милях к северу от Гове, или Гоа, как зовут этот порт португальцы. Война идет только за территорию, а не за религию — никаких глупостей вроде джихада или крестового похода. Среди офицеров и солдат в армии императора немало наемников-мусульман. Али скорее уж мог нажить неприятности из-за того, что был купцом, чем из-за своей веры. Купцы, как известно, шпионы, а то и двойные агенты, за вознаграждение поставляющие тайные сведения обеим сторонам. В этом обвинении есть доля истины: ведь для всякого купца заманчиво купить товар по дешевке и перепродать его на том же самом рынке. Можете мне поверить — я сам такой.
Последнее приключение Али, которое я собираюсь пересказать, принесло ему кое-какое состояние: он купил имение у подножия Западных гор, отличная земля для выращивания специй и пару примыкавших к нему деревушек, послал изрядную сумму своему сыну Гарею и помаленьку расходовал остаток.
Когда мы начали записывать его повесть, сложилось обыкновение: я приходил к нему, во внутренний дворик, три-четыре раза в неделю. Что-то вроде тысячи и одного вечера разумеется, на самом деле их было гораздо меньше, впрочем, как и ночей Шахразады. Али утверждал, что ему нравится рассказывать о себе, что таким образом ему удастся оставить людям какую-то память о себе. Али не верил ни в загробное существование, ни в переселение души в какое-нибудь животное или насекомое, о чем толкуют индусы высшей касты (они называют себя браминами[1]), ни в мусульманский рай, где питаются амброзией и нектаром, любуясь прекрасными гуриями, — Али говорил, что свою долю красивых женщин и сладостей он получит еще на этом свете.
Он с наслаждением воскрешал в памяти радости и мучения своей долгой жизни, покачиваясь в плетеном кресле под тенью благоухающих коричных деревьев, удобно откинувшись на подушки, попивая лимонад и закусывая пирожком с бхангом (бханг способствовал перевариванию обеда из баранины, жаренной на кокосовом масле и приправленной куркумой, кориандром и имбирем). Домашние его предались послеобеденному сну, даже пестрые рыбки в пруду едва шевелились.
— Я теперь не ложусь спать днем, — сообщил он мне, когда я в первый раз устроился рядом с ним и приготовился записывать. — В старости сон не идет к человеку, а мои девочки не хотят ложиться со мной до ночи, говорят, слишком жарко, к тому же я после еды то и дело пускаю ветры.
Скорее всего, это просто предлог, и они сейчас совокупляются со своими любовниками. А если нет — зря теряют время. В их возрасте я бы ничем другим не занимался. С чего же мы начнем? — С начала.
Али бен Кватар Майин родился в маленькой горной деревушке неподалеку от Дамаска. Ему только что исполнилось восемь лет, и он прошел первое посвящение в таинства той исламистской секты, к которой принадлежало его племя (это было какое-то ответвление шиизма[2]), но тут местный халиф, суннит[3], решил истребить инакомыслящих среди своих подданных. В одно мгновение Али лишился своего счастливого, хоть и не слишком сытого детства. Обстоятельства истребления его семьи могли бы показаться слишком ужасными, если б мы не становились свидетелями подобных же событий по всему миру. Только Виджаянагара избавлена от этого кошмара, а так повсюду одно и то же: во имя Господа люди рассекают себе подобных на части, подвергают пыткам, изобретают все более жестокие и изощренные способы причинить боль и смерть. В каком-то смысле родных и близких Али можно даже почесть счастливцами они были изнасилованы, избиты и буквально разрублены на куски, но все это произошло очень быстро. Не сравнить с теми нескончаемыми страданиями, которым подвергают друг друга приверженцы различных христианских сект, когда им попадется в руки кто-нибудь из еретиков.
В тот день, перевернувший его жизнь, когда он словно вторично явился на свет, на глазах у Али его отец и мать, другие жены отца, родные и сводные братья и сестры были изувечены и убиты. Вернее, это произошло бы у него на глазах, но он сразу же крепко зажмурился, чтобы ничего не видеть.
— Сколько лет тебе было? — переспросил я.
— Мне было всего шесть лет, я убежал и попытался спрятаться.
— Только что ты говорил, что тебе было восемь.
— Разве? Только что? Нет, ты ошибаешься. Конечно же шесть. Уж я-то знаю. Я бросился в самое надежное убежище, какое только знал: укрылся под бабушкиными юбками. В восемь лет я бы этого не сделал.
Что ж, подобные неточности встречаются у любого рассказчика.
По словам Али, воин-суннит отрубил бабушке голову одним ударом острого, как бритва, ятагана. Старуха резко наклонилась вперед, из обрубка, оставшегося на месте ее шеи, фонтаном брызнула кровь, заливая ее одежду и подушки, среди которых она сидела, а в следующее мгновение она повалилась на пол (голова так и лежала у нее на коленях), и воин вновь взмахнул ятаганом, на этот раз нацелив удар в Али — бабушкины юбки больше не скрывали мальчика. Этот удар должен был перерубить мальчика пополам наискосок, справа налево, но в последний момент Али отклонился, и лезвие ятагана прошло мимо, только самый кончик задел его. «Задел», — деликатно говорит Али; на самом деле острие вонзилось в тело примерно на дюйм, повредило правый глаз, вырвало ноздрю, обезобразило рот заячьей губой, разрубило ему правую ключицу, вдавило грудину, вырвало слева четыре ребра и обнажило плоть на левом боку. Царапина, да и только.
Отшатнувшись назад в момент удара, Али упал навзничь и потерял сознание. Рана оказалась столь тяжкой, что мальчик впал в некое подобие транса, который вызывают у себя индусские йоги: все телесные функции замедлились, но не прекратились, сердце билось, быть может, только раз в минуту, и потому кровь, хлынувшая было из раны, тут же начала сворачиваться и остановилась, прежде чем он истек кровью. Он потерял примерно два кувшина крови, не более.
Стояла зима, дело было в горах, так что ночь выдалась холодная, и мальчик очнулся только на следующее утро. Убийцы, желавшие, чтобы деревня навеки осталась необитаемой, засыпали поля солью, ограбили свои жертвы и стащили тела всех родных и соседей Али к колодцам. Они сбросили трупы в воду, рассчитывая таким образом отравить ее трупным ядом.
Следовало ли Али воздать хвалу Аллаху за то, что его бросили в колодец последним и потому он оказался на самом верху этой груды тел? Возможно, и следовало, если только забыть, что и само насилие творилось во имя Аллаха.
Он пришел в себя, когда солнце коснулось его обнаженной спины и начало припекать. В запекшейся крови, и своей, и чужой, страдая от жестокой боли — все тело онемело, — Али сполз с груды трупов на край колодца и огляделся по сторонам. Он был здесь единственным живым существом, не считая потихоньку собиравшихся мух и крыс. Овец и коз угнали, собак уничтожили столь же безжалостно, как и их хозяев. Али обратился в бегство. Он задержался в своей деревне лишь для того, чтобы подобрать какие-то лохмотья, все еще украшавшие огородное пугало, а затем, прихватив межевой шест вместо посоха, Али поспешил прочь.
Сперва он смог уйти совсем недалеко, но, по мере того как его рана заживала, он уходил все дальше и дальше. Возможно, вся его жизнь была бегством, во всяком случае, пока он не нашел себе приют в Мангалоре. В те годы он спал мало, урывками, и ему снилось, как он бежит. Он добрался до Багдада, до Тавриза, до Кабула. Он шел пешком, ехал верхом, плыл по морю.
Нищим странником Али добрался до Золотого пути, ведущего в Самарканд, присоединился к каравану — погонщики, носильщики и конюхи лучше своих господ помнили завет Пророка об обязанностях верующего по отношению к бедным. Вместе с караваном он добрался до Шелкового пути, а по нему — до Каракумов и Крыши мира. Он проходил по этому маршруту несколько раз, совершенствуясь в искусстве клянчить, а затем и в искусстве торговать. Он знал уже все приемы, с помощью которых нечестные купцы надувают своих партнеров, и, когда тот же караван в пятый раз снаряжался в путь с грузом шелка, ляпис-лазури и золота, Али сделался ближайшим помощником купца-парса, склонявшегося к шиизму и доброжелательно относившегося к бедному юноше.
Нельзя сказать, что с этого началось процветание Али, но, по крайней мере, он получил средства к жизни. Десять лет он работал на парса в качестве мальчика на побегушках, посредника, секретаря. Он научился читать и писать, складывать и вычитать, вести бухгалтерию. Состарившись, парс ленился покидать свой дом и склад товаров, и Али стал его доверенным лицом, торговым агентом. Ему легко давались языки — эта способность пригодилась Али еще в детстве, когда он просил милостыню и как-то уживался с людьми разных наречий. Но, занятый по горло делами, Али находил время для глубокого изучения тайн шиизма и даже, оставив на время работу, посвятил год, а то и два общению с мудрецами, жившими в горной общине к северу от Гиндукуша.