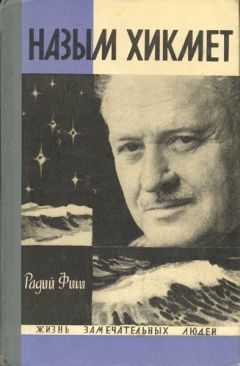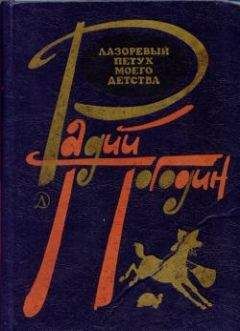Радий Фиш - Спящие пробудитесь
Спор этот с великим мыслителем и поэтом Джеляледдином Руми, коего в мусульманском мире именуют Мевляна — «Господин наш», опочившим в Конье за восемьдесят с лишним лет до его рожденья, был давним, можно сказать, семейным. Отец передал Бедреддину почтение к логически строгим заключениям, на основе которых толкования отдельных строк Корана, деяний и изречений Мухаммада приводились в стройную систему. От отца своего, который обучался в одной из столиц исламского правоверия — Самарканде, унаследовал Бедреддин и пренебрежение к шейхам и дервишам, к коим, не без основания, причислял и Джеляледдина Руми. Ведь тот, подобно остальным суфийским шейхам, претендовал на постижение Истины не посредством разума, а сердцем, или, как они выражались, откровением. «Разум, — любил повторять Мевляна, — необходим. Но ровно настолько чтобы понять его ограниченность».
Правильно, разум ограничен. Но где предел для расширения его границ? Заочный разговор этот с Джеляледдином Руми длился не один год. Да только ли с ним? И с Платоном, и с Ибн Синой, и с Аристотелем, и с Аль-Фараби. Он знал себе цену: если уж спорить, то с умами, учившими думать на столетия.
Раздался громкий лязг металла. Стража отперла засовы Озерных ворот. Грубо покрикивая на входивших в город крестьян, рылась в узлах, ощупывала поклажу. Звякали щиты, кольчуги, звенело оружие. Десятник ночного караула запустил руку в корзину, выхватил жирного сазана, откинул его в сторону, обтер ладонь пучком травы. И глянул наверх.
«Проверяет, здесь ли еще этот опальный улем, — подумалось Бедреддину, когда он на мгновение встретился взглядом с десятником. — Сдаст с рук на руки начальнику дневной стражи: пусть, мол, у того теперь болит голова».
Звон железа, неотделимый от власти, как жужжанье от гнуса, отозвался в его душе злой болью. Мнилось, давным-давно притерпелся он к ней. Ли нет, словно тлевший в присыпанных пеплом углях, вспыхнул огонь, сжигавший его сердце. И озарил разум. И стало ясно ему, что делать.
Ни один мускул не дрогнул меж тем на его лице. Спокойно оправил чалму, повязанную поверх невысокой шапки, запахнул потеснее полы темного стеганого халата, обитого синей тесьмой. Если только сам он того не желал, никто на свете давно уже не мог увидеть, какие чувства одолевали его. Разве что Джазибе, когда ложился он рядом, но жару кожи догадывалась об исступлении его и о гневе. Но Джазибе — да будет земля ей пухом! — покинула его шесть лет назад.
Он вошел во тьму башни, спустился по ступеням. Стражники, а за ними крестьяне и рыбаки, входившие в город, приветствовали его поклоном. Привыкнув читать по лицам, как по раскрытой книге, он без труда узнал в их почтительности страх и искательство одновременно, что, как обычно, пробудило глухую тоску. Молча ответил на поклоны и, сдерживая шаг, оскальзываясь на влажных камнях, поспешил в город.
У дворца, построенного некогда султаном Орханом неподалеку от Озерных ворот, на стыке северной и восточной стен, перебирали ногами у коновязи породистые скакуны под ковровыми туркменскими попонами, суетились стремянные да взад и вперед прохаживались воины в высоких красных шапках, с кривыми ятаганами на кожаных поясах.
Город проснулся. Из внутренних двориков долетал до него то недовольный голос старой гречанки, что-то выговаривавшей детям, то скрип колодезного ворота, то стук деревянных башмаков. Над мостовой стелился запах кизячного дыма из разожженных очагов.
Чем ближе подходил он к главному перекрестку, откуда дороги вели ко всем четырем крепостным воротам, тем чаще приходилось замедлять шаг: его невысокую сухопарую фигуру узнавали еще издали по легкой стремительной походке, не свойственной духовным лицам. Кланялись, приложив руки к груди, вынуждая отвечать тем же. И потому, оставив в стороне мечеть, перестроенную из древней базилики, он свернул в переулок за старой баней, что вросла в землю но самые купола, подобные обмазанным глиной ульям.
Город пережил немало осад, нашествий и разорений. Люди погибали, уходили, увозились в рабство, но камни оставались. Римский театр служил христианам каменоломней при постройке церквей, развалины особняков византийской знати разбирались по камешку для жилых домов и дервишеских обителей, церкви перестраивались в мечети. Улицы прокладывались порой через груды щебня, как через холмы. И уже Изник, а не Никея, заселялся новыми людьми, не ведавшими, чьим потом, чьей кровью политы, смех чьих детей, слова каких языков отражали полированные временем камни, хранившие ныне тепло их очагов. А посаженные безвестными руками черенки вновь поднимались вверх лозой, густой зеленью листвы закрывали глухие стены.
После османского завоевания, однако, город так и не оправился. Едва начав устраивать здесь свою столицу, османские султаны перенесли ее поближе к своему воинству, отбивавшему у Византии все новые земли на Балканах, — сперва в Бурсу, а затем и за соленые воды в Эдирне. Вождям племенных отрядов, вассальным беям, собравшимся под османские бунчуки, надлежало постоянно чуять над собой султанскую руку, дабы не вздумалось им отложиться и превратить вновь завоеванные земли в свои уделы, ссылаясь на древнее огузское «право сабли». Вслед за двором потянулись в новые столицы улемы. Увезли из Изника лучших оружейников, седельщиков, кузнецов. Лишь гончары остались, да и те больше работали для больниц, бань, странноприимных домов, медресе и мечетей, воздвигавшихся в новых столицах султанами во славу имени своего. В Бурсу да Эдирну забрали лучших каменщиков и строителей. Здешние трудились без прежнего рвения: едва ли не целое лето провозились, поправляя единственный минарет у бывшей базилики Святой Софии, обрушившийся от легкого трясения земли.
Как прежде, стояли в городе караван-сараи, где кормили верблюдов и вьючных лошадей и ночевали гости. Но прежнего, разноязыкого многолюдства на базарах давно не бывало. Лет тридцать назад, когда Изник лежал на главной дороге в Царьград, шли туда караваны из Каира и Да маска, везли товары из Индии, Мавераннахра и Ирана, из Кафы, Крыма и полночных стран русов, с островов и земель генуэзских и венецийских френков, из Грузии и Азербайджана. Нынче же шли они через Изник лишь из-за Черного моря да с Кавказа. Однако не разворачивались здесь вьюки, не менялись верблюды: крепость сделалась всего лишь ближней стоянкой перед первопрестольной Бурсой. Скоротав под защитой двойных стен ночь, караваны уходили, увозя свои богатства и путников дальше.
Смутные времена настали на землях османов после разгрома, постигшего султана Баязида под Анкарой. В развалинах лежали города, разграбленные хромым Тимуром, опустели рынки, ремесленников во множестве угнали за Сырдарью в далекий Самарканд, уцелевшие стонали от поборов и насилий четырех сыновей Баязида, дравшихся между собой за отцовский престол и сменявших на нем друг друга едва ли не через год. Все жиже становилась похлебка в котлах горожан, все тоньше лепешка.
И в то хмурое сентябрьское утро 1415 года, когда, сжигаемый огнем нетерпения, спешил он к себе в обитель, жители Изника глядели понуро, шевелились точно осенние мухи, и даже голоса неуемной детворы в сыром, насыщенном нездоровыми озерными испарениями воздухе звучали глухо и безрадостно.
Миновав старую пекарню, увитую лозой под самую крышу, он вышел на улицу, что вела к Енишехирским воротам. На той стороне, рядом с медресе Сулеймана-паши, стояло завие Якуба Челеби, которое он избрал своей обителью.
IIКогда он прибыл в Изник, его посетил сам кадий Куббеддин Мухаммад, судья и глава духовенства. В изысканных выражениях, обличавших в нем улема иранской школы, изъявил радость по поводу того, что теперь правоверные Изника смогут греться в лучах прославленного светила веры и учености, и великодушно предложил ему вести уроки законоведения в медресе Орхание. То была великая честь: медресе Орхание, именовавшееся так по имени своего основателя султана Орхана, было старейшим в Османской державе, а сам Куббеддин имел честь исполнять в нем должность мюдерриса, то бишь старшего преподавателя.
Не составило труда догадаться, что старая лиса Куббеддин был озабочен не столько образованностью своих учеников, сколько возможностью тут же узнавать каждое слово, которое может быть публично сказано опальным улемом.
Тот, однако, вовсе не намеривался участвовать в непременных для медресе диспутах о божественных атрибутах, несотворенности Корана и прочих богословских премудростях: здесь каждый тщился перещеголять другого в учености, под коей понималось умение удержать в памяти возможно большее число ссылок на изречения пророка, свидетельства его сподвижников, авторитетные мнения столпов богословия, на комментарии к их трактатам и толкования этих комментариев. Не собирался он и выслушивать вопросы тупоголовых, но настырных учеников, которых интересовала не Истина и даже не начетническая ученость, а скорейшее получение выгодного места имама, кадия или, на худой конец, их помощников, что зависело от мюдерриса, а потому всячески выказывали перед ним свое усердие. А главное — он не желал больше скрывать своих истинных взглядов под покровом общеобязательных догматов. Минули для него те времена.