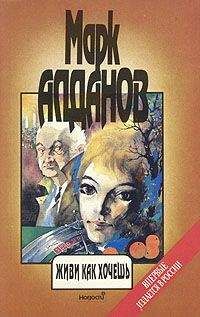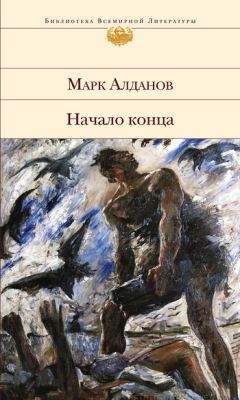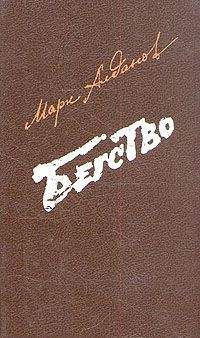Назир Зафаров - Новруз
Этими ранними произведениями предвосхищен позднейший роман «Навруз», который мы вправе назвать сегодня Главной книгой Назира Сафарова, как путь к иен осветившей все его творческие искания предшествующих десятилетий.
Достаточно проследить историю создания романа, чтобы убедиться, как непосредственно в ходе работы над ним расширялся и укрупнялся изначальный писательский замысел. Сначала был написан роман о Джизакском восстании «День проклятий и день надежд». Его название подчеркнуто ассоциировалось с давней очерковой повестью «Незабываемые дни» — зерном, из которого вырос колос. Затем, продолжая повествование во времени, Назир Сафаров написал книгу «Белые листы юности моей», где рассказал о становлении и первых шагах Советской власти на джизакской земле. Разлив новой жизни, создаваемой на руинах старого мира, был уподоблен ликованию Навруза — светлого, радостного праздника весны, вестником которой пробивается к солнцу цветок подснежника. Так на обложке тома, объединившего обе книги, появилось слово «Навруз», ставшее названном единого романа-дилогии. Одно из первых его изданий на русском языке вышло в 1975 году. Последнее — в 1981 году. Сопоставляя их, видишь, что работа писателя неустанно продолжалась все эти годы: роман обрастал все новыми и новыми эпизодами, сцепами, картинами — одни главы дополнялись, другие писались заново. А некоторые в финале второй книги и отсекались. В них рассказывалось о том, как юный Назиркул, оставив по окончании школы родной Джизак, уезжает в Самарканд, где приобщается к «свету науки». Почему Назир Сафаров снял эти главы? Может, им суждено стать началом нового, третьего романа, который расскажет о дальнейшем пути автобиографического героя — его комсомольской юности, учебе и учительстве, приобщении к журналистике, а через нее и к писательскому творчеству? Как знать, как знать…
Во всяком случае, традиция, в нестесненном русле которой создавался роман «Навруз», предполагает цикличность протяженных во времени романных или новеллистических повествовании. Начало этой традиции в советской многонациональной литературе положила автобиографическая трилогия Горького. Оказав мощное идейно-эстетическое воздействие на творчество многих писателей, она вызвала широкую волну произведений, гребнем которой в 30—40-е и особенно в 50—СО-о годы каждый раз по своему становились такие, чаще всего многотомные, произведения, как романы и повести Садриддина Линн «Бухара» и Стефана Зорьяна «История одной жизни», Сабита Муканова «Школа жизни» и Салчака Тока «Слово арата». На рубеже 60–70-х и в 70-е годы внушительный ряд этих типологически близких явлений продолжили в русской литературе трилогия В. Каверина «Освещенные окна», в литовской— повесть Юозаса Балтушиса «Пуд соли», в татарской — повесть Гумера Баширова «Родимый край — зеленая моя колыбель», в узбекской — повесть Абдуллы Каххара «Сказки о былом», писавшаяся как раз в то время, когда и Назир Сафаров вынашивал замысел романа «Навруз».
В тематической преемственности названных произведений есть внутренняя закономерность, которую едва ли не первым отметил Г. Ломидзе: «Автобиографический материал емок, многообъемен. Судьба личности складывается вместе с судьбами эпохи. Детство, юность героев протекают но в изолированных особняках, не в узком семейном кругу. Открыты настежь все двери. Ветры и молнии времени врываются в них» История проходит через судьбу личности, чье «сопротивление окружающей среде» становится основой образа, освещенного горьковским идеалом жизнедеятельного гуманизма, сущностью социально-активного характера. «Опыт Горького, — подчеркивает исследователь, — помогал писателям в самостоятельном исторически конкретном исследовании условий человеческого существования, роли личности в социальном преобразовании бытия».[2] Заметим, самостоятельном. Творческая опора на традицию чужда ученической подражательности, предполагает но повторение, а развитие, которое не признает унификации талантов, не стирает оригинальных, индивидуально своеобразных и национально самобытных красок и интонаций, манер и стилей.
К роману «Навруз» сказанное приложимо в полную меру. Лирически раздумчивая, исповедальная интонация писательских воспоминаний о прожитом и пережитом, поэтический строй авторской речи, образно афористичной, метафорически иносказательной, погружают нас в колоритный мир узбекской жизни, который открывается во множестве исторически конкретных примет, социальных и психологических деталей, бытовых подробностей, пейзажных зарисовок. Живописное, особенно в первой книге романа, слово Назира Сафарова воссоздает «пестрый ковер красок» Востока с его цветением садов и журчанием арыков, разноголосицей гудящего, словно пчелиный улей, базара, ремесленных махал-лей-кварталов, где мастера-умельцы прославляют родной Джизак искусством чеканщиков по меди и серебру, ювелиров, кузнецов, ткачей. Зорок и чуток взгляд наблюдательного, впечатлительного Назиркула, малолетнего сына чорбазарчи-коробейника. Всматриваясь в окружающую жизнь, он не знает пока еще, как долог и терпнет «путь к воротам истины», вовсе не прочерченный прямой линией, но мир, исподволь открывающийся сознанию, ужо предстает перед ним но только в радости, по и в печали.
Откуда в ном дар понимания, мудрость сопереживания и сострадания? Не поздний ли опыт задним числом привносит их в ранние впечатления? «Говорят же, идущий одолевает дорогу, — разъясняет писатель, словно предвидя эти вопросы. — Еще не ведая по малости лет, что иду вперед, я уже двигался тропой, именуемой жизнью». Возмечтав однажды взмыть в небо вместе с бумажным змеем, Назиркул едва не разбился о землю. Жизнь что земля: как в прямом, так и в переносном смысле то и дело награждая тумаками и синяками, она цепко держит в сфере своего притяжения. И тем зрелее ее непреходящие уроки, чем чаще заботы и беды взрослых касаются юного сердца. Как в несчастном случае с человеком, растерзанном стаей волков. «Вообще эта ночь была удивительной и страшной. Наверное, я повзрослел сразу и потому, что произошло все неожиданно, в какой-то очень короткий промежуток времени: мои детские представления рушились стремительно, принося боль, горечь, разочарование и в то же время освобождая место для новых мыслей и чувств. Главное, я вдруг увидел своего отца и через него мир, в котором все было недетское, суровое и беспощадное. В том мире не находили себе места наши забавы, наши радости и мечты. Не находила места там, кажется, и мечта моей матери об ученом сыне».
Незадавшимся годам ученичества в первой книге романа не случайно отдано особенно много места. Не счесть, сколько ясных умов и самородных талантов было загублено в дореволюционном Узбекистане отупляющей системой мусульманского богословия, насаждавшего слепой фанатизм и религиозную нетерпимость, культ насилия и жестокости. Опекаемая царизмом, старая мусульманская школа немало преуспела в достижении его главной «цели затемнения народного сознания». «Такой дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, — такой страны в Европе не оста лось ни одной, кроме России»[3], — писал В. И. Ленин как раз в то время, когда для автобиографического героя романа «Навруз» «начинался новый день… жизни. И возникал он на пороге мечети». Этого одного-единственного дня оказалось достаточно, чтобы на всю жизнь запомнить, что такое мактаб — школа при мечети. «Ни один луч не коснулся ни нашего сердца, ни нашего разума. Тьма. Постоянная тьма. Она была во всем. И в словах, непонятных нам, и в системе, которую устанавливал учитель. Она зиждилась на слепом, рабском повиновении, беспрекословности, фанатизме. Делан то, что тебе говорят, повторяй то, что произносят, верь, по что верует другой». Приемами социальной сатиры выписана в романе фигура муллы — наставника, воспитателя юношества. Воистину, как говорят в народе, «мулла сыт не оттого, что он грамотный». Ремесло нахлебника сделало его алчным, бесстыдным, злым. Рядом с ним неоткуда было взяться высоким мыслям, светлым порывам, благородным чувствам. «Человек формируется на примерах, а пример домуллы был страшен. Никому, никому из нас не хотелось быть на него похожим. Поступки его вызывали отвращение, жадность — насмешки… Он знал, что мы не любим его. И чтобы влиять на нас, вселял в каждого страх. Страх, поражающий волю, испепеляющий душу. Почти каждый день на наших глазах совершались избиения, пытки. В комнате, у степы, на видном месте лежали орудия истязания, специально изготовленные для этой страшной цели».
Таков мрачный, потусторонний мир мечети, где царит зловещая тишина, «высятся каменные своды и темнеют мертвые оконца келий», — сквозь них не прорваться живым голосам. Но они раздаются за стенами мактаба, которые не застят свет герою романа. Нет для него большей радости, чем, возвращаясь из школы домой в махаллю, наблюдать за работой «удивительного кудесника, который из куска железа способен сделать красивую подкову, или серп, или кетмень. Мы, мальчишки, с любопытством вглядывались в полумрак кузниц, где полыхало упрятанное в глиняном закутке пламя и стучали звонко молотки». Живя среди ремесленного люда, в простой семье бедолаг-тружеников, он жадно впитывает в себя народные представления о добро и зле, которыми проникнуты нормы трудовой морали и выработанные на их основе социальные, нравственные, этические идеалы. В конечном счете это предопределяет тот выбор, который делает Назиркул между старшими братьями в поисках примера, образца для себя.