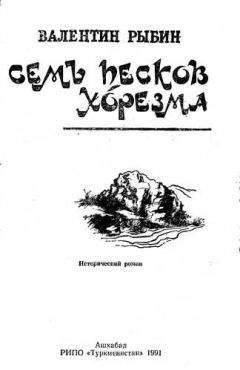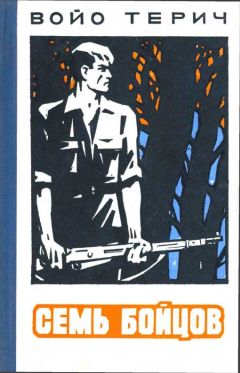Федор Шахмагонов - Твой час настал!
— И я не ожил бы! Борис Годунов...
Екатерина перебила деверя:
— Сжил бы тебя со свету Борис, а могло и так повернуться, что ты Бориса тем приговором от царя Федора отпихнул бы в преисподнюю. Род Шуйских остался бы единственным, кому перешло бы царствование.
— Понятно мне твое сожаление. Меня Годунов со свету сжил бы, а трон перешел бы моему братцу, ты — царица! А я вот — живой! И — на троне!
— На троне... То правда! А знать бы тебе, что подняться на трон легче, чем усидеть на нем. Не о Марине Мнишковой тебе тревожиться, а о пустом, как ты говоришь. Весточка из Серпухова — не пустое. Раз воскресши, не воскрес бы Дмитрий вдругорядь. Не привыкать тебе преступать крестоцелование. Преступи и ныне. Охоч ты грамоты рассылать, а слова — вода. Пролилась и высохла. Одно тебе остается: объявить, что царевича повелел зарезать Годунов, а тебя заставили правду скрыть. А теперь вот ты раскаялся и по велению совести тело невинно убиенного царевича решил перезахоронить в усыпальнице московских государей. Невинная его душа тлению не надлежит. Явятся из могилки мощи святого отрока — страдальца!
— Зело хитро! — Оценил Шуйский вслух, а про себя порадовался, что пришла ему мысль призвать на совет невестку.
— Нет Василий, — продолжала Екатерина. — Какая тут хитрость. Годунов убил, да сказать о том невмочно было, а теперь вот порявилась чудесами его могилка. А тебе спасение от появление одного за другим лжецаревичей!
Шуйский не хотел показать, что слова невестки пробрали его до мороза по коже. Дух захватывало от того, как она разумно обернула углическое дело.
Екатерина и тут проникла в его мысли.
— Не нудись, Василий, не упусти время!
Время упустить нельзя. Самому ехать в Углич — терять царское достоинство. Кого же послать, кому доверить тайу? Друг предаст, враг посмеется. О друзьях и поминать нечего, друзей не нажил. Ныне — всяк враг из зависти. Доподлинно тайну о том, что царевича Дмитрия вывез из Углича Афанасий Нагой, мало кто знал. Угличан, что об этом знали, казнили. Знали о подмене Андрей Клешнин, дьяк Елизарий Вылузгин и митрополит Геласий. Клешнин затворился в монастыре отмаливать грех за сокрытие правды о царевиче. Дьяк похоронен. Митрополит Геласий одряхлел. Знали Борис Годунов, да Федор Никитич Романов. Борис — мертв, Федор Никитич — монах, возведен в митрополиты самозванным царем.
Без духовного владыки в деле изъятие мощей не обойтись. Филарет единственный кому поверит московский люд. Его участие в обретении мощей положит конец сказу о живом Дмитрии. Уговорить его — трудная задача. На что надеяться, при несокрушимой его честности? Расстрига вызволил его из Сийской ссылки, возвел в митрополиты, ждал его с нетерпением, а Филарет, прибыв в Москву к царю не поспешил. Не пожелал признать царем самозванца. На твердость Федора Никитича уповая, Шуйский позвал его в царские палаты. На зов явился. Остались с глазу на глаз.
— Звал? Пришел! — объявил Филарет и хмуро взглянул из-под кустистых бровей. — Почто звал?
— Звал! — подтвердил Шуйский. — Хотел от тебя услышать, по какой причине не похотел встретиться с Расстригой, когда все ему поклонились?
— И без спроса тебе известно! Ворам Романовы не поклонялись, с изначала нашего рода от Андрея Кобылы и от Федора Кошки.
— Не дивись Федор Никитич, что не называю тебя Филаретом. Не я тебя постригал, никак не могу взирать на тебя, как на лицо духовное. Раскрасавец боярин — по беде монах. Хмурым тебя сделала монастырская жизнь.
— Не заметай лисьим хвостом, Василий! Я для тебе не монах, а ты для меня не государь!
Шуйский благодушно посмеивался.
— Согласимся на этом. Те, кто служил триста лет роду Ивана Калиты, роду суздальских князей — не служилые. Сошлось ныне: и у служилых московским государям и у служилых суздальских князей одной заботой тишина на Русской земле.
И моего рода князь суздальский и боярин Федор Кошка, твой прародитель, равно стояли против Мамая на Куликовом поле. Не рядом ли нам и ныне встать, чтоб отвести неизреченные бедствия от Русской земли? Ты не явился пред царем Дмитрием, потому, когда повестили тебя, что на престоле — Расстрига. Трудной бы оказалась ваша встреча. Вот и спрос: где же он, прирожденный царевич Дмитрий? Почему не он пришел, а Гришка Отрепьев? Его ждали. И ты ждал в далеком Сийском монастыре.
— И ты ждал? — с усмешкой спросил Филарет.
— Ждал. Скажу более! Это я за ним отправил в Литву Гришку Отрепьева, потому, как он у меня спасался от Годунова. Ушел Гришка за царевичем, а вернулся подставой под царевича. Потому был я готов голову положить на плаху. Повязаны мы, Федор Никитич, одним узлом, нам с тобой его и развязывать.
— Мудрено в Москве развязать, что в Риме и Кракове завязано.
Шуйский уловил, что Филарет в раздумье, а от раздумья один шаг заколебаться. Возникла надежда сломить его. Шуйский тихо сказал:
— Пришла пора мощи невинно убиенного углического отрока предать земле.
— Кого, Василий? Дмитрия земле предать? А, быть может, он жив?
— Был бы жив, не утаился бы. Никто его не утаил бы. Не на турецкий поход собирал войска Расстрига, а на Сигизмунда. Возомнил стать и Московским царем и королем польским. Какой титул всклепал на себя! Император! Жив был бы царевич у короля под рукой, Сигизмунд скорехонько усмирил бы нашего Дмитрия. И тебе и мне известно, что царевич не зарезался, и Борис Годунов его не убивал. Не блюсти нам ни чести, ни невинности Годунова, спасать надо Русскую землю от самозванщины. Один исход: признать, что царевич убиен в Угличе по повелению Годунова. Мертвые сраму не имут. А мощи отрока привезти в Москву и захорониить согласно царевичеву званию.
— Василий, побойся Бога! — молвил подавленно Филарет.
— Бога боюсь не порадеть православной вере супротив латинской ереси. Не похороним обретенные мощи и тень царевича — погибнем! Одно еще не закончилось, другое сызнова заводится...
Шуйский помолчал, приуготавливая Филарета к последнему своему доводу.
— Из Серпухова весточка... Прошли трое верхоконных и объявили, что царь Дмитрий жив, не убит, а спасся. Убит кто-то другой. И еще сказали, что один из троих верхоконных и есть царевич Дмиторий...
— Сказать всякое можно...
— Глядючи, что сказать и кто скажет. Из тех троих верхоконных двое известны: Григорий Шаховской и Гришкин ведун Михайло Молчанов. Всякой смуте заводчики. О третьем не сыскано. Севера не спокойна, до се шайки Хлопко себе дело ищут, и польский король «заботами» своими нас не оставит. Подставили одного Дмитрия, не задержатся подставить и другого. Если мы с тобой не похороним навеки тень Дмитрия, более это сотворить некому. Ехать тебе святитель Филарет, ныне молитвеннику нашему, ради тишины на русской земле в Углич и принять на себя грех. Однажды согрешив, как мы с тобой согрешили, ради спасения царства от смуты и ныне неизбежно грех принять во искупление. Принял ты ранее лжу, что царевич самозаклался, принимай и этот грех!
Всадники. Что прошли Серпуховым, не очень-то встревожили Филарета, а вот избиние поляков в Москве нерушимо чревато последствиями. Подвигнет сие Сигизмунда подставить еще одного самозванца. Подавляя ненависть к Шуйскому, ради тишины на Русской земле, выдавил из себя:
— Из Сийска везли, душа расцветала у меня, как подснежник из-под снега. Дмитрия нет. Похороним его душу. С кем идти?
— Идти тебе, Филарет, с астраханским епископом Феодосием, пойдут Спасского и Андронникова монастырей архимандриты, сродственник твой Петр Шереметев и князь Иван Воротынский.
2
На исходе ночи, когда загремел набат над Москвой, Михайло Молчанов тешился в царской бане с гулящей бабенкой. Ударили колокола с кремлевских соборов, земля отозвалась дрожью, загудели стены в бане. Бабенка вывернулась из рук Молчанова и завопила:
— Ахти, мне! Горим!
Молчанов очумело слушал набат. Бабенка спешила одеться, Молчанов опередил ее, подтянув штаны, опрометью выскочил из бани.
Солнце еще не проникло за кремлевские стены, но сумрак рассеялся. Во Фроловские ворота валом валили всадники. Впереди на коне Василий Шуйский с воздетым мечом в одной руке и с крестом в другой. Не держал бы царь Дмитрий при своей особе Михайлу Молчанова, если бы не отличался ведун смекалкой. Молчанов побежал к царской конюшне, в миг сообразив, что с царем Дмитрием покончено. Из ворот конюшни выводили коней князь Григорий Шаховской, с ним жидовин Богданка, что состоял толмачом при царе, переводил с польского и славянского на русский.
Молчанов схватился за стремя.
— Князь, и я с вами!
— Бери коня, пока дают!
Молчанова знала царская обслуга. Отдали коня. Молчанов догнал Шаховского и Богданку на выезде из Троицких ворот.
У Серпуховской заставы Шаховской ответил на оклик стражи установленным отзывом, и, уже выйдя из Земляного города, пустили беглецы коней вскачь.