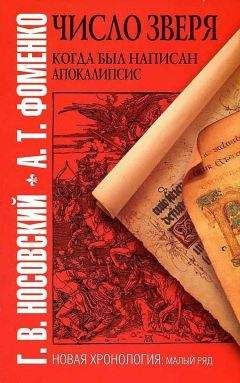Сергей Алексеев - Крамола. Книга 2
— Не давала драть, когда поперек лавки лежал, — вмешался Прошка Грех. — Я бы скоро ума вставил. Дак нет, в музыку с ними играла, песни пела. Потому на старости лет и ходим-мыкаемся.
— Не сердись, тятенька, — ласково попросила мать Мелитина. — Кто же знал, что дома нашего не будет? Не наша на то воля.
— Да уж не наша, — согласился Никодим, оживляясь. — Не слушай меня, ищи своего сына. Я вот один, так и искать некого… Ну, вы располагайтесь, сапоги-то хоть снимите, посушить надо. Я сей же час печку подтоплю…
— Не хлопочи, Никодим, — остановила его мать Мелитина. — Мы в обитель свою пойдем. Там где и притулимся. Много ли надо…
— Что ты, матушка! — замахал руками старик. — К обители теперь и близко не подпускают. И не думай даже. Там нынче тоже учреждение.
— Как же? — испугалась она. — А слыхала — пусто там, и окна повыбиты…
— Было пусто, да заселили, — сообщил Никодим. — Уж скоро год как.
— А могилки?.. Ведь сыночек мои там, Сашенька! И деверь мой, отец Даниил… Как же они-то?
— Про могилки не знаю, матушка, — загоревал старик. — Давно не был. Теперь вовсе не пускают, не поглядишь. А кого пускают, у того уже не спросишь.
— Думала, хоть Сашеньку искать не придется, — сокрушенно вздохнула мать Мелитина. — Но и его могилки не увидеть… Кто же там нынче живет, Никодим? Раз не пускают?
— Люди, матушка, люди…
— Жива ли Богородица-то? — всполошилась мать Мелитина. — Над воротами? Икона-то?..
— Жива, — обрадовал Никодим. — Видел издалека…
Они оба замолкли, и расходившийся самовар засопел, засвистел милицейской трелью. Но в каморке стало совсем тягостно, и Никодим, взбодряя себя, заговорил, забалагурил:
— Вот и чай поспел! Угощать нечем, да и Пост Великий, дак хоть чаю вволюшку напьемся! Как бывало у покойничка-владыки…
— Не время нынче чаи распивать, — вдруг решительно истрого сказала мать Мелитина. — Пойду сыновей искать. Пойду. Страстную неделю поживу, помолюсь у ворот обители да и тронусь… Есть ли у тебя шайка или лохань какая?
— Да есть, — засуетился расстроенный Никодим идостал из-под лавки шайку. — Конешно, у меня вам не житье… И мне тут самому какое житье? Да я привык. Человека отучить трудно, априучить-то…
Мать Мелитина налила из самовара в шайку кипятка, разбавила его холодной водой и, стащив с Прошки Греха большеватые солдатские ботинки, стала мыть ему ноги. Иссохшие, костлявые ступни отливали смертной синевой, и, похоже, мозоли уже не набивались на этих ногах, хотя кожа была тонкой и почти прозрачной. Прошка блаженно прикрыл глаза и вдруг сказал радостно, с какой-то детской хвастливостью:
— Я к Боженьке пойду! Мне к Боженьке надо!
Над черными коваными воротами монастыря, в лепном золоченом киоте сияла в вечерних лучах икона Умиления Богоматери. Все было здесь как прежде: вишневый камень стен, белый храм на фоне корабельных желтых сосен и сизый отблеск полой воды в излучине Повоя. Казалось, минет вечность, а в этом покойном месте ничего не произойдет и не изменится, пока встает над землей солнце и пока Матерь Божья держит Сына на руках. Но чем ближе подходила мать Мелитина к своей бывшей обители, тем сильнее заходилось сердце от печали и тяжелел взятый на закорки, почти невесомый отец, Прошка Грех. И нельзя было поднять руки для крестного знамения…
По гребню стен, над аркой ворот и над киотом тянулась колючая проволока, а за нею проглядывали темные окна длинных бараков. По лику Богоматери, по ее рукам и одеждам струились черные потеки.
У ворот, пиная камешки, ходил стрелок с винтовкой.
Мать Мелитина спустила Прошку на землю, дала ему в руки палку, и он остался стоять, подрагивая, словно только что вылупившийся цыпленок. Часовой рассматривал пришедших с любопытством и поддергивал на носу очки в железной оправе. Великоватая буденовка висела на ушах, придавая ему какой-то пришибленный и нелепый вид. Будь он парнишкой — все бы ничего, не привык к казенной одежде, не приносилось еще военное, а этому наверняка под тридцать. Значит, из интеллигентской семьи и служит без году неделя. Стороннему человеку всегда кажется, что солдаты, монахи и каторжники на одно лицо. А они же такие разные! И душа каждого кричит — нет! Я не такой, как все! И если не видеть и не слышать этого — навряд ли пережить бы туруханскую ссылку…
Она приблизилась к часовому и, поклонившись иконе, тихо поздоровалась. Стрелок тотчас ответил ей. И лишь мгновение спустя спохватился, подбросил винтовку на плечо.
— Назад, — неуверенно сказал он, — Подходить к воротам запрещено!
— Не к воротам я пришла, батюшка, — ласково отозвалась мать Мелитина. — К иконе. Ведь праздник сегодня. Неужто и икона Богородицы под твоей охраной?
Стрелок покосился вверх, пожал плечами:
— Про икону не приказывали…
— Так уж пусти к иконе, — попросилась она. — В праздник не пустить — грех великий.
Часовой смутился, поддернул очки.
— Разговаривать на посту нельзя.
— А ты молчи, — утешила его мать Мелитина. — И помоги-ка мне вербушку положить. Сама не достану, высоко…
Стрелок окончательно растерялся, и по его тонкому, чувственному лицу скользнула едва заметная гримаса досады. Он словно говорил про себя: почему именно в мое дежурство принесла их нелегкая? Теперь придется что-то делать. Мать же Мелитина уже не сомневалась, что стрелок не откажет. Он служил недолго и был еще совестливым, и люди перед его глазами еще не были на одно лицо. Она протянула часовому веточку, и тот взял. А до киота было высоко, пришлось бы взбираться по воротам под свод арки, однако стрелок вдруг скинул с плеча винтовку, примкнул штык и поднял на нем вербу к самой иконе. Пристроив там веточку, он обернулся к матери Мелитине уже радостный от своей догадливости и сноровки.
— Храни тебя Господь, — она перекрестила стрелка, и тот, сняв буденовку, поклонился. — Скажи мне, сынок, цел ли погост у храма?
— Могилы? — он оглянулся назад, на ворота. — Могилы есть, да… только кресты сняли. В окна вставили, в бараки…
— В окна? — испуганно переспросила мать Мелитина. — Господи, зачем же в окна?
— А вместо решеток, — объяснил стрелок и втянул голову в плечи. — Не все сняли, только железные, кованые, с узором.
Прошка Грех приковылял ближе к воротам и встал, прислушиваясь. Белесые глаза его оживились, открылся вваленный рот.
— Пускают? Али не пускают? — прошамкал он. — Спроси-ка толком-то, дочка.
Мать Мелитина спохватилась, попросила ласково:
— Пусти нас, сынок. Мы только на могилки глянем да вербочки положим.
— Не могу я, матушка, — почти взмолился стрелок. — Никак нельзя!
— Да ведь мы на минутку. И уйдем. Столько верст прошли…
— Пожалейте меня, ей-богу! Накажут строго, не могу. Начкар — человек суровый…
— Ну, Бог с тобой, — согласилась мать Мелитина. — Тогда вот вербушки возьми да положи сам. Кресты каменные, должны стоять…
Стрелок взял вербу и с облегчением, будто вынырнув из воды, хватил воздуха, сунул ветки под шинель.
— Положу, матушка, — начал он, однако низкий и звучный скрип железной калитки ударил по ушам. Часовой вытянулся, и очки поползли на кончик носа. Дрожащей рукой он спрятал вербные сережки за пазуху и вздрогнул от низкого, сильного голоса:
— Деревнин! Что за базар на посту?!
Из калиточного проема выступил человек в военном, заложил руки за спину, оглядывая посторонних, перевел взгляд на стрелка.
— Взятки брать?
Он выхватил из-под шинели стрелка вербу, повертел в руке, постучал букетом по хромовому сапогу.
— Та-ак… В чем дело?
Прошка Грех вдруг поднял палку, замахнулся на военного.
— Нехристь, так твою мать! — заругался он. — Ныне везде вход позволен! Ныне и в Иерусалим пускают!
Стрелок слегка успокоился и стоял, опустив глаза. Мать Мелитина взяла у военного вербу и оттеснила Прошку. Военный усмехнулся, мотнул головой.
— Погляди на них! Вражьи недобитки… К кому пришла?!
— К сыну, — сказала мать Мелитина. — И к деверю.
— За что сидят?
— Ни за что.
— Все вы ни за что!
— Они в могилах, — несмело вставил часовой и тут же поправился: — Давно похоронены. На погосте.
Военный стрельнул прищуренным глазом в его сторону, сказал, добрея и теряя интерес:
— Тут не музей и не проходной двор. Учреждение… Идите-ка домой.
Мать Мелитина подняла глаза к иконе, перекрестившись, попросила:
— Прости его, Господи…
Военный машинально проследил за ее взглядом, качнулся на носках — скрипнули ухоженные сапоги.
— А вербу дай, — вдруг сказал он. — Так и быть, положу… Кому только? Фамилии?
— Нет у них фамилий, — сказала мать Мелитина. — Только имена. Сергий и Даниил. Рядом лежат.
— Ладно… — он помедлил. — А твоя как фамилия?
— И у меня ее нет, — проронила мать Мелитина. — Без нужды нам фамилия.
— Документы-то есть? Ну-ка, предъяви! — посуровел военный.