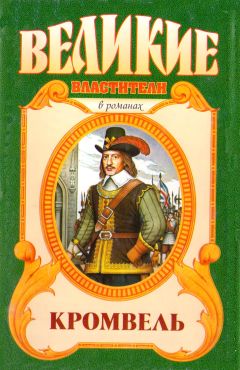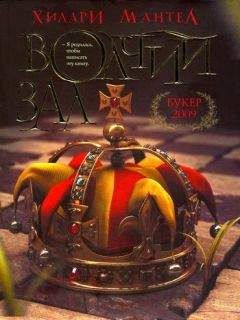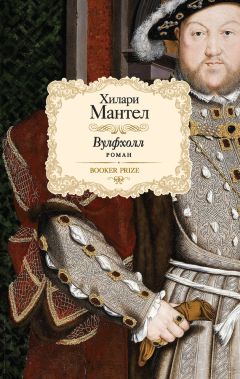Алексей Варламов - Булгаков
Пьеса своему герою не подошла, и точка. «Нельзя такое лицо, как Сталин, делать литературным образом, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать» [111; 469].
Вот и все. Пересмотру это решение, по-своему очень точное и логичное, не подлежало. Это был приговор. Катил, катил Сизиф свой камень и наконец закатил на вершину, с которой тот, чуть качнувшись, понесся вниз, круша все на своем пути. Целился, целился Булгаков в нужную мишень и попал в самого себя.
Вся последующая, дьявольская по драматизму и стечению обстоятельств история оглашения этого приговора многократно описана во всех книгах, Булгакову посвященных, и ничего нового добавить к ней, по-видимому, уже нельзя. То, что случилось в пассажирском поезде Москва–Тбилиси, отправившемся из Москвы жарким утром 14 августа – так и хочется сказать четырнадцатого нисана – 1939 года, было по своему содержанию чудовищно. Сталин уже прочитал пьесу, может быть, закончил накануне ночью, когда преисполненные надежд Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна упаковывали чемоданы, чтобы ехать за сбором дополнительного материала в Батум. Идея этой поездки принадлежала Немировичу-Данченко и была передана Булгакову Ольгой Сергеевной Бокшанской. («8 августа. …позвонила Ольга от Немировича <…> Немирович сказал – самое идеальное, если поедет Мих. Аф.» [21; 277–278].)
Здесь была последняя подсказка ангела. Бойся данайцев, дары приносящих. Не бери ничего, идущего от Немировича и переданного его секретарем. Булгакову ли этого было не знать, но он очевидного знака не распознал, вернее – не захотел распознавать, хотя предчувствия его одолевали. Но он их прогонял.
Канун катастрофы. 13 августа 1939 года. Наверное, то был их последний, не тронутый физическим тлением смерти вечер. Наверное, она думала, мечтала об успехе («Неужели едем завтра!! Не верю счастью» [21; 279])[135], мысленно представляла, как пройдет премьера, что она наденет, где будут сидеть гости (этот список уже был составлен, расписан, и Булгаковым сочинена знаменитая шуточная записка на имя Ф. Н. Михальского от лица Елены Сергеевны[136]), как будут на них смотреть и подобострастно улыбаться, завидовать им враги и недоброжелатели, а они – автор и его жена – торжествовать, и после стольких лет неудач к ним придет успех, который заставит забыть обо всех провалах, и он не станет больше плакать по ночам, разрывая жалостью ее бестрепетное сердце, он же… он же вернее всего и упорнее всего думал о другом – о том, что на спектакль придет его герой и тогда-то их встречи будет не избежать и сбудется то, к чему он мучительно стремился после рокового, переломившего его жизнь разговора в Страстную пятницу 1930 года. И значит, все случившееся с ним за десять лет – все его беспрерывные срывы и поражения будут оправданы и искуплены.
А потом настало утро, проводы на вокзале, шампанское, цветы, застолье в «международном купе» – пирожки, ананасы в коньяке, веселье и… остановка в Серпухове с телеграммой «бухгалтеру» о том, что надобность в поездке отпала.
Здесь, кстати, стоит сделать одно отступление и обратить внимание на обстоятельство, похоже, никем из исследователей не замеченное. В «Записках на манжетах» был такой эпизод:
«– Вы бухгалтер?
– Боже меня сохрани…
– А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь, – скороговоркой проговорил маленький.
– Для постановки моей революционной пьесы, – скороговоркой ответил я.
Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.
– Пьесы сочиняете?
– Да. Приходится.
– Ишь ты. Хорошую пьесу написали?
В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:
– Да, хорошую.
Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так:
– Нет. Она не хорошая пьеса. Она – дрянь».
Поразительно как все совпало, как он все тогда угадал! – бухгалтер, Тифлис, революционная пьеса, преступление-наказание, пьеса-дрянь…
Двадцать лет спустя фарс обернулся трагедией. «Коварный диктатор рассчитал точно» [23; 114], – написал в одной из своих статей Борис Мягков. Это, конечно, несколько наивное суждение. Диктатор ничего не рассчитывал – он был лишь инструментом в руках судьбы. А вот она, похоже, действительно все рассчитала. «Телеграмма ударила по самым тонким капиллярам – глаза и почки» [142; 471], – говорили впоследствии врачи Елене Сергеевне. Он хоть бы на полдня пораньше прочел бы, этот усатый черт в Кремле, чтобы казнить своего подзащитного не телеграммой, а как-то иначе. Нет же… Спешно выгрузившиеся на платформу участники экспедиции – Виленкин и Лесли, Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна, решившие было ехать дальше, но сошедшие в Туле и вернувшиеся оттуда в Москву на подвернувшемся ЗИСе.
«В машине думали: на что мы едем? На полную неизвестность? Миша одной рукой закрывал глаза от солнца, а другой держался за меня и говорил: навстречу чему мы мчимся?.. Через три часа бешеной езды <…> были на квартире. Миша не позволил зажечь свет, горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил – покойником пахнет…» [13; 522]
Все-таки у него была очень несправедливая и горькая судьба. Ужасно безжалостная даже при том, что не коснулись его ни Лубянка, ни Колыма и он не разделил участи арестованных в 1939-м Мейерхольда, Кольцова, Бабеля… Его убили в тот год иначе.
На «Батуме» его жизнь действительно оборвалась и прижизненная доля отныне почти не волновала. Сценическая кровь вышла вон, остались лишь мысли о посмертной судьбе, быть может, о бессмертии. А вызывало ли бессмертие «нестерпимую тоску», как у Пилата? Во всяком случае покоя оно не обещало точно.
Его волновало то, каким он останется и какой будет судьба его произведений, сохранятся ли они, будут ли действительно напечатаны и что станут про него говорить. Его взволновала и возмутила фраза Сахновского о том, что «наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как желание перебросить мост и наладить отношение к себе» [21; 281]. «Это такое бездоказательное обвинение, как бездоказательное оправдание» [21; 281], – записала и скорее всего со слов мужа Елена Сергеевна. Но осуждал ли он себя за свою жизнь и свой финальный поступок, вспомнил ли в тот момент слова Хлудова, обращенные к вестовому Крапилину: «Плохой солдат! Ты хорошо начал, а кончил скверно», – как уверенно предположила Мариэтта Чудакова: «Можно вообразить себе, как грянули в голове Булгакова в тот момент, когда он выслушивал это, слова Хлудова…» [111; 469]
Косвенно выраженное в этой цитате осуждение исследовательницей своего героя, сожаление о его малодушии замечательно характеризуют ее саму как несгибаемого борца с тоталитаризмом и поборницу демократии, и уж, конечно, никогда бы сама Мариэтта Омаровна на подобный шаг не пошла, но вряд ли ее принципиальность распространяется в данном конкретном эпизоде на героя «Жизнеописания Михаила Булгакова»[137].
Булгаков не стыдился своей пьесы и не каялся в том, что ее написал. Порукой тому и воспоминания Виленкина, уже в этой главе цитировавшиеся, и нецитировавшиеся слова другого мемуариста.
«Вы же, наверное, успели уже узнать наши литературные нравы. Ведь ваши товарищи обязательно станут говорить, что Булгаков пытался сподхалимничать перед Сталиным и у него ничего не вышло.
Тут он повысил голос, насколько смог, и закончил так:
– Даю вам слово, и в мыслях у меня этого не было. Ну подумайте сами – какой это замечательный драматургический конфликт: пылкий юноша-семинарист, революционно настроенный, и старый монах – ректор семинарии. Умный, хитрый, с иезуитским складом ума старик. Ведь мой отец был доктором богословия, я таких „святых отцов“ знал не понаслышке» [32; 379–380].
Так говорил Булгаков в воспоминаниях Леонида Ленча, которому вряд ли была нужда слова писателя сильно искажать, но если даже и предположить, что Ленч их случайно или намеренно исказил, существует еще одно неоспоримое свидетельство. Незадолго перед смертью Булгаков дал прочесть «Батум» сестрам Надежде и Елене («Когда мы остались одни, он рассказал мне историю „Батума“ и начало своей болезни <…> На столе в его комнате лежит приготовленный экземпляр „Батума“. „Ты хотела прочесть? Вот я приготовил“. <…> Я читаю „Батум“. Успеваю прочесть только начало и конец и перелистать середину, т. к. тороплюсь на работу. В коридоре Леля быстро и с интересом:
„Ну, как? Понравился 'Батум'“? Я не могу ответить, т. к. у меня нет цельного впечатления» [48; 186]), а едва ли он дал бы им эту пьесу прочесть, если б почувствовал свою нравственную слабину.
Булгаковский «Батум» не был ни падением, ни гибелью, ни сдачей советского либо русского интеллигента перед кровавой властью, ни проявлением слабости и уступкой, это был – проигрыш карточного игрока. Не та карта пришла, не так масть легла, не тот противник достался. Пиковая дама нахально подмигнула ему левым глазом.