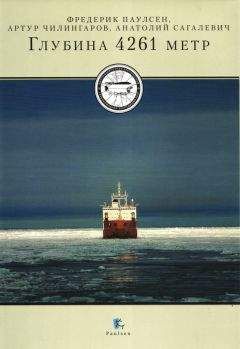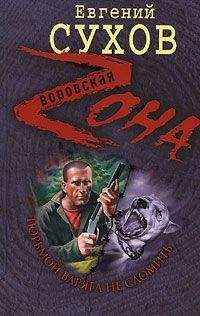Александр Башкуев - Призвание варяга (von Benckendorff)
Что рассказать о взятии Берлина? Я не могу судить досконально о том, как все было, ибо если и видел в Берлине врагов, так только — покойниками. Моя рана на ноге хоть и позволяла болтаться в седле, подобно кулю с дерьмом, но по земле я все еще ходил при помощи костылей. Так что мои люди здорово убежали вперед от меня.
Единственное, что я сделал, — это отдал приказ придержать удила пред Королевскою Канцелярией и ее брали люди Блюхера.
Освободи мы Берлин, нас накормили бы и напоили. Не больше того. Но "помогших нам освободить наш Берлин" встречали, конечно, не так… Иной раз выгодней "не успеть" с точки зрения — человеческой. И лучшей дружбы впоследствии.
Я был представлен к высшему прусскому ордену "Pour le Merite" и назначен моей тетушкой главным координатором взаимодействия прусской и русской армий.
После сего награждения я не смею получить русского военного Ордена. Стать членом Ордена все равно как обвенчаться в церкви, — "пока Смерть не разлучит вас". (Виртути Милитари после упразднения Польши — не Орден, но "памятный знак".) Парадокс в том, что я — русский офицер и не должен носить чуждого Ордена. Так и лежит он у меня в письменном столе — в коробочке.
Берлинская победа дала толчок массовому народному восстанию в Германии. Общее одушевление было всеобщим и даже я тиснул жалкие вирши, написанные мной под впечатлением от сей победы. Вот та самая листовка, — вам и судить:
Napoleon ins Rusland kam,
Von Hochmut angetrieben;
In Moskau er Quartiere nahm,
Hat's dort nicht lang getrieben;
Das Feuer hat die ganze Stadt
Mit Stumpf und Stiel verzehret,
Da reist er aus, wierdum nach Haus
Eilig den Rucken kehret.
Der Hunger und die grose Not
Sie uberall anpacken;
Vor Kalte fallen tausend tot,
Und tausend von Kosaken.
Die Beresin', als sie nun fliehn,
Die Halfte hat verschlungen;
Napoleon, der Teufelsohn,
Im Schlitten ist entsprungen.
So kommt der Ubermut zu Fall,
Denn Gott im Himmel richtet
Und strafet nun der Frevel all,
Der er lang angerichtet.
Die gros' Armee, o weh, o weh,
In Eis und Schnee begraben,
Von Hunger tot, von Frost und Not,
Die fressen Wolf' und Raben!
Не думаю, что это стоит переводить на русский. Я немец, юность моя прошла в Остзее, да Франции и странно мне было бы писать рифмы на чуждом для меня языке. Это сейчас, когда я чуток пообвыкся и говорю чаще по-русски, у меня иной раз получается нечто стихоподобное. Правда это — одни переводы и я не числю себя поэтом.
Когда в 1831 году моя команда разгромила очередной польский отряд, один из вождей инсургентов запел под виселицей.
Я невольно заслушался и отменил казнь. А потом подозвал певца и спросил как его зовут и кто написал сию песню? Молодой человек, смутившись от такого внимания с моей стороны, отвечал по-английски:
— Когда я отплывал из Бостона, дядя спел мне ее на прощание.
Я долго смотрел на лицо инсургента и признал в нем явное сходство с одним из самых ярых ненавистников нашей Империи. Тогда я спросил:
— Как здоровье пана Огиньского? Я думал, что он не усидит дома в пору сию.
Юноша побагровел, как от оскорбления, и выкрикнул:
— Он тяжко болен! Он только поэтому не смог прибыть! Доктора сказали, что он не вынесет дороги через океан!
Тогда я выдал ему аусвайс на право пройти через все наши порядки до Данцига "со всеми сопровождающими" и сказал:
— Война кончена. Восстание подавлено. Вы можете продолжать сражаться, но мы убьем вас всех. Ради детей и женщин — выведи их из этого ада, а вот тебе деньги на проезд до Америки. Здесь теперь для вас земли — нет. Довези их и передай привет дяде. А коль ищешь Смерти — вернись. Я всегда тут.
Я не стал вешать его хотя б потому, что сам мог вести моих латышей на Восстание против русских.
А вот песня осталась. На другой день мне дали новые списки приговоренных, подписанный Государем. И я, согласно списку сему, выписал всем пропуска до Данцига со словами:
— Не могу требовать у Вас того, чтоб вы не дрались. Воюйте и мои солдаты убьют Вас. Но не требуйте от меня, — Вашей казни. Англия с Францией — предали вас. Кончено. Уезжайте, пока сие в моей Власти.
На другой день Государь вызвал меня на ковер, и я объяснил:
— Если вы желаете обратить Польшу в огромное кладбище — быть по сему. Но дело в ином. Дело в людях моих, — они пьют, Ваше Величество, а сие дурной знак.
Мы истребили польскую армию. С нами борется польский народ. Объявите Амнистию, прошу Вас!
Тут денщик моего кузена по имени Адлерберг взвизгнул:
— Вы сильно изменились, Бенкендорф! В тринадцатом вы с поляками обращались совсем по-иному!
— В тринадцатом поляки получали должок за все, что они вытворяли в России в двенадцатом. И карал я без всякой жалости, ибо годом раньше они сами пришли с огнем и мечом! И карал я их — после честного боя, а теперь…
Я не изменился. Война — другая. Совсем иная война…
Государь от моих слов серьезно задумался. Сам он — не воевал и не мог знать, — чем одна война отличается от другой. Но вечером того дня он пошел по порядкам с инспекцией и, говорят, при виде пьяных "весьма огорчался". А пьяны были многие. Строго говоря, — все.
Знаете, — это в первые дни забава — задрать юбку пленной "паночке". Иль того хлеще — "спустить штаны" пленному мальчику. Из первых рук доложу, — сие огромное развлечение. Я сам в 1813 году переспал с многими католичками, ибо считал сие — воздаянием за все то, что католики с нами делали. Но так было в ту — Большую Войну…
А в эти дни… Развлечения с пленницами первых дней сменились желанием — залить голову водкой и ни о чем — ни думать, ни знать. Это и есть "иная война"!
Мы — солдаты. Мы давали Присягу и обязаны Исполнить наш Долг. Но никто не посмеет запретить нам — напиться. Надраться до чертиков, до — забытья, чтоб забыть про сию "Иную Войну"!
И Государь в ночь той инспекции все это видел и осознал. Той же ночью по войскам пошел Приказ об Амнистии, а через неделю Восстание кончилось.
Я же весь вечер просидел в нашей столовой, пытаясь подобрать на рояле мелодию той самой песни Огиньского. А как подобрал — само собой полилось:
Ах, зачем наша жизнь проходит и тает?
Я бокал не допил и сердце свое не раскрыл,
Ухожу навсегда из родимого края,
Где оставлено — столько могил…
Не успел я допеть это само собой получившееся четверостишие, раздались столь бурные аплодисменты слушавших меня офицеров, что я смутился и не мог продолжать. На другой день песню полностью перевел на русский мой секретарь — князь Львов.
Через месяц ее пела уже вся русская армия. А потом ее пытались запретить, как слишком вольнодумную и якобинскую. Куда там!
И вот я в таком расположении духа возвращаюсь с этой "грязной войны", а мой протеже — встречает меня всяким бредом. Мерзостью, кою я привел на страницах моего предисловия.
Нет, я понимаю, что все это весьма верноподданически, но…
Вы представить себе не можете, — как я взбесился. Штатские (не зная подробностей сей "грязной войны") визжали от радости. Армия восприняла сие Оскорблением и как — издевательскую Пощечину!
Такие штуки нельзя оставлять без внимания и я пригласил Пушкина на тот самый вечер, с коего и повел мой рассказ. Прочесть "Моцарта и Сальери" перед чавкающим, чмокающим и сыто рыгающим стадом, — меж раками в сметане и заливным!
Моя матушка, случись ей присутствовать при сием — была бы в восторге от столь утонченного оскорбления! (Князь Орлов после вечера поставил мне бутылку "Клико" за то, что я "столь тонко отомстил за всех нас!" Ощущения прочих людей в сапогах, были — сходны.)
Если бы рифмоплет осознал, что его оскорбляют, я бы пощадил его Честь. Но пиит принял все это, как должное, и Общество покарало его куда более явным образом.
Вообразите, — генералы хихикают, столпившись над лестницей, поясняют пассиям — что там (самыми вульгарными словами и жестами), а под лестницей "арап" потеет в полном одеянии с шубой жены на руках. При том, что Государь уже расстилает госпожу Пушкину на кушетке в известной всем комнате. Титул "первой красавицы" любого двора зарабатывается старым, как мир, женским способом, а в нем любой Царь — обычный мужик!
Но полный Восторг у всех вызвало то, что когда вспотелый наш Государь выбрался в зал со встрепанной и помятой госпожой Пушкиной, стоило ему похвалить борзописца — тот готов ему был руки лизать! А от рук сиих пахло — его же собственною женой!
Вообразите себе, Государь протянул тому руку для поцелуя, тот наклонился, стал целовать, почуял женские запахи (а в миг соития женщины пахнут, конечно же — не духами!), замер и… Расплылся в улыбках и благодарностях.
Пассии наши аж застонали с восторга, а казарма подавилась сдавленным хохотом, да жеребячьими комментариями. Честь Пушкина с того дня в высшем Свете была попросту уничтожена!
Старшая дочь Пушкиных — чернява и малоросла. Но уже старший сын — с детства носит ботфорты и уже сегодня перерос всех своих сверстников. Если же заглянуть в свинцовые глаза этого необычайно сильного белокурого мальчика, берет оторопь — настолько они холодны, пусты и безжизненны. Про второго мальчика нельзя сказать что-то наверняка (он пошел в матушку), но вот младшенькая — высока, прекрасно сложена и белокура.