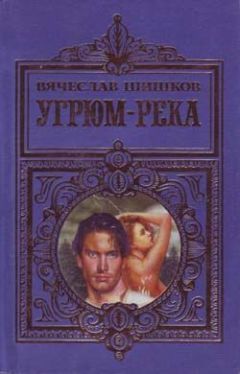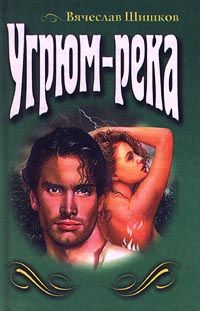Вячеслав Шишков - Угрюм-река
Кровать и кроватка. Дыханье ребенка спокойно. Нянька дышала в прихлюпку, с бредом. Прохор весь сразу расслаб. «Комната Верочки». Снял со стула какую-то вещь, кажется туфельки дочки, и сел, вытянув вдоль колен руки.
«Боже мой! Комната Верочки. Но как же я мог перепутать?» Он пучил глаза, пробуждался. Руки дрожали. Николай чудотворец грозил ему с образа очень строго:
«Уходи, наглец, уходи!»
— Кто тут?
— Я, няня, — расслабленным шепотом ответил Прохор и почувствовал — по щекам ручейки. — Я, няня, сейчас уйду… Я к Верочке. Показалось, что она заплакала…
— Нет, барин… Она не плачет. Это попритчилось вам. Она, ангел божий, спит.
— Да, да… Мне показалось, что плачет она. — И, не утирая слез, а только поскуливая, Прохор тихо вышел.
Шел коридором. Озирался, как вор… Вложил руку в карман. Бритвы не было.
Прошел к себе, дал свет, отворил шкаф и отпрыгнул: из шкафа выскочил, бородатый Ибрагим и тоже отпрыгнул в ничто.
— Фу, черт побери!.. — плюнул Прохор. — Себя боюсь. — И плотно захлопнул дверцу зеркального шкафа. Вновь отразился в плоскости зеркала. — Да, такой же бородач, как и черкес. Надо сбрить бороду. Да, да.
Выпил микстуру и лег. Все дрожало в нем и куда-то неслось.
Быстро вскочил, отыскал припечатанный сургучной печатью пакет, вынул записку. Строчки были, как кровь:
«Поступаю в полном сознании. Похоронить по-православному. Мой гроб и гроб жены рядом. Гроб Верочки наверху».
Прохор Петрович взмотнул головой, весь сжался, весь сморщился и застонал, как заплакал:
— Нина… Жестокая Нина!.. Неужели не жаль тебе Прохора?
16
К знаменитому селу Разбой со всех сторон подъезжали на подводах, — подплывали на плотах, на саликах громовские, получившие расчет землекопы, лесорубы, приискатели.
На одной из отставших подвод ехали пятеро: Филька Шкворень, его дружок, недавно бежавший с каторги, — Ванька Ражий и другие. Вдруг высыпала из тайги ватага с ружьями.
— Ребята, стой! Дело есть! — крикнул бородатый из ватаги.
— Ибрагимова шайка, матушки! — испугался мужик, хозяин лошаденки. Он соскочил с телеги и, пригнувшись, словно спасаясь от пули, бросился в лесок. А Филька Шкворень схватил топор.
— Эй, дядя! Воротись! — кричали из ватаги. — Мы своих не забижаем…
Филька Шкворень бросил топор и, взмигивая вывороченными красными веками, во всю бородатую рожу улыбался разбойникам. Хозяин лошаденки остановился и, выглядывая из чащи леса, не знал, что делать.
— Деньги есть, молодцы? — спросил кривоногий коротыш Пехтерь в рысьей с наушниками шапке и строго повел белыми глазами по телеге. Филька Шкворень опять схватился за топор, устрашающе заорал:
— Есть, да не про вашу честь! — И обложил ватагу матом.
— Да нам и не надо ваших денег, — загалдели из ватаги в три голоса. — Мы вам сами хотели дать, ежели…
— Берегите полюбовницам своим, — Филька Шкворень спрыгнул с телеги, пощупал на груди под рубахой кисет с золотыми самородками и сильными движениями стал разминать уставшее в дороге тело.
— Нет ли табачку, папиросок, братцы? — спросил, ухмыляясь по-медвежьи, страшный видом Пехтерь. — Давно не куривал хорошего табачку.
— Ха, папиросок!.. — с пренебрежительной гордостью буркнул Филька Шкворень. — Ванька, брось им из моего мешка коробку самолучших сигар со стеклышком.
Все уселись на луговину. Повалили из бородатых ртов ароматные дымочки. Облако кусучих комаров отлетело прочь.
— Богато живете, — сказал, затягиваясь сигарой, черноусый разбойник-парень с черной челкой из-под шляпы.
— Живем не скудно, — сплюнул сквозь зубы Филька и скомандовал:
— Ванька, самолучшего коньяку «три звездочки»! Ребята, у кого нож повострей? Кроши на закуску аглицкую колбасу.
Пехтерь вытащил кривой свой нож:
— Ну, в таком разе — со свиданьицем! — и бутылка заходила из рук в руки.
— А где ваш набольший атаман? — спросил Филька Шкворень, чавкая лошадиными зубами кусок сухой, как палка, колбасы.
— Далече, — нехотя и не сразу ответил Пехтерь, вздохнув. — А вот, ребята, до вас дело — возьмите с собой наших двоих, они бывшие громовские, только беспачпортные. Авось проскочат с вами.
— Которые? — пощупал волчьими глазами Филька Шкворень всю шайку.
— А вон с краешку двое: Евдокимов да… Стращалка-прокурат.
— Отчего не взять? Возьмем.
— Что, коньячку больше нет? — с задором подмигнул Пехтерь белым глазом.
— Господского нет, трех звездочек, — проглотил слюни Филька. — А есть бутылочка заграничного, синенького. Эй, Ванька! Матросский коньяк «две косточки»!..
Ванька Ражий, ухмыляясь во все свое корявое лицо, вытащил из мешка бутылку денатурату с надписью «ЯД», с мертвой головой и двумя перекрещенными под нею костями. Все захохотали. Пехтерь первый отпил из бутылки глотка три, сгреб себя за бороду, судорожно затряс башкой и брезгливо сплюнул. Опять все захохотали и тоже сплюнули.
— Что, добер коньячок «две косточки»? — перхая лающим смехом, спросил Филька.
— Ничего, пить можно, — вытер слезы Пехтерь и, отвернувшись, поблевал.
Бутылка пошла вкруговую. Ватага одета чисто, в громовские похищенные в складах вещи; в серых фетровых шляпах, в богатых пиджачных парах, в дорогих пальто. Правда, костюмы в достаточной степени оборваны, замызганы, загажены.
Рабочие с улыбчивой завистью косились на ватагу, а Филька Шкворень, ковыряя в носу, сказал:
— Эх, стрель тя в пятку, нешто пойти, ребята, к вам в разбойнички: дело ваше легкое, доходное… Нет… Просить будете, и то не пойду.
— Пошто так?
— Милаха меня в Расее поджидает… Эх, пятнай тя черти! — причмокнул Филька и, отхлебнув денатурату, утерся бородой:
— Приеду в Тамбовскую губернию — женюсь. Я теперь… вольный. Я богатый… Ох, и много у меня тут нахапано! — ударил он по груди ладонью, приятно ощупывая скользом золото. — Бороду долой, лохмы долой, оденусь, как пан, усы колечком — любую Катюху выбирай!.. Я, братцы-разбойнички, сразу трех захоровожу. Богатства у меня хватит. Одну — толстомясую, большую, вроде ярославской телки чтоб; другую сухонькую, маленькую, ну, а третья — чтоб писаная краля была, в самую плепорцию. Ух ты, дуй не стой! — Филька рывком вскинул рукава и залихватски подбоченился.
Подошел с охапкой хворосту сбежавший хозяин лошаденки, покосился на ватагу, сказал, пугливо дергаясь лицом:
— Я за сушняком бегал. А вы думали, вас испугался?
Дерьма-то…
И стал разжигать костер.
— А ну, ребятки! — прохрипел Пехтерь, свирепо уставился белыми глазами в заполощное лицо крестьянина и вынул из-за голенища кривой свой нож. — А ну, давай зарежем мужика: лошадка его нам сгодится.
У мужика со страху шевельнулся сам собой картуз.
«А что ж, — подумал он, — им, дьяволам, ничего не стоит ухлопать человека… Тем живут».
— Зачем же меня резать-то? — сказал он, задыхаясь, и попробовал подхалимно улыбнуться.
— Как зачем? На колбасу перемелем! — закричала ватага.
— Ну нет, на колбасу не пойдет, — осмелев, сказал мужик. — Я, братцы-разбойнички, с башки костист, с заду вонист.
Все заржали. И Пехтерь паскудно улыбнулся. Костер разгорался. Спасаясь от кусучих комаров, все полезли под дымок.
В чаще леса дважды раздался резкий свист.
— Аида! — скомандовал Пехтерь.
Все вскочили.
— Ну, прощай, Стращалка-прокурат! Прощай, Евдокимов! Спасибо вам. А уж мы в вашу честь Громову леменацию устроим… Да и рабочие, слых есть, шибко зашевелились у него. Шум большой должен произойти, — удаляясь, кричала ватага двум оставшимся своим. — Ребята, песню!.. — И вот дружно зазвенела хоровая разбойничья:
Что ж нам солнышко не светит,
Над головушкой туман,
Злая пуля в сердце метит,
Вьет судьба для нас аркан.
Эх, доля-неволя,
Глухая тюрьма!
Долина, осина,
Могила черна!
Филька Шкворень, настежь разинув волосатый рот и насторожив чуткое ухо, застыл на месте. Наконец песня запуталась в трущобе, умерла.
— Вот это пою-у-у-т, обить твою медь!.. Не по-нашенски, — восторженно выругался он, вздохнул и растроганно затряс башкой. Глаза его сверкали блеском большого восхищения.
В селе Разбой шум, тарарам, гульба. Сегодня и завтра в селе редкий праздник: полтысячи разгульных приискателей оставят здесь много тысяч денег, пудика два самородного золота и, конечно же, несколько загубленных ни за понюх табаку дешевых жизней.
Этот праздник круглый год все село кормит. Недаром так веселы, так суматошны хозяева лачуг, домов, домищ; они готовы расшибиться всмятку, они предупредительно ловят каждое желание дорогих гостей, ублажают их, терпят ругань, заушения, лишь бы, рабски унизив себя до положения последнего холуя, ловчей вывернуть карманы ближнего, а если надо, то и пристукнуть этого ограбленного брата своего топором по черепу.