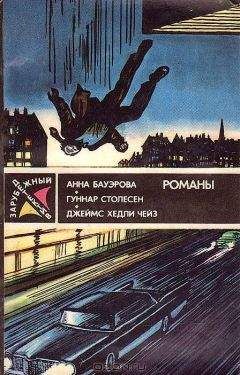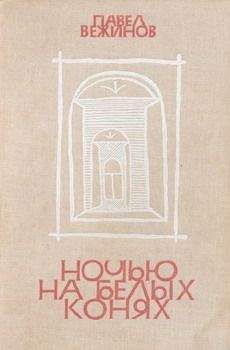Валентин Иванов - Русь изначальная
В сумерках скамары покинули убежище в развалинах. До Козьей горы оставалось два ночных перехода. Георгий дал лошадей трем товарищам, хотя они ничего не обещали вожаку скамаров. Пока им было просто по пути, так как скамары приближались к Юстинианополю.
Ночная Фракия лежала дикой степью, глухой и слепой, без одного огонька.
Чуя волков, лошади всхрапывали, но послушно шли, доверяя великому могуществу человека, его силе, его храбрости.
3
Дале и дале берег уходит, и очи
лица распознать уж не могут…
Скоро и парус пропал.
Ночной переход прошел спокойно. До восхода солнца скамары достигли сладкого озерка, завесившегося высоким кустарником. С озера сорвались дикие утки. Стая волков уступила людям удобную дневку у водопоя. Лишь досадливо назойливые кулики все возвращались и возвращались с жалобным писком, обиженные вторжением в их тихую пристань.
Все было обычным для скамаров на знакомом, надежном месте. Отсюда сорок стадий до имперской дороги и половина перехода до усадьбы Евмена. Козья гора – родной дом – ясно выступала на хребте Родопов. Будь место повыше, Георгий мог бы различить вход в ущелье с водопадом, где славяне спрятали клад оружия.
На востоке Георгий заметил пять движущихся точек. Ни одно животное еще не обеспокоилось бы их появлением, и лишь человек мог в них распознать человека.
Вот и еще всадник, и еще.
Георгий забрался на толстую иву, единственное дерево среди кустов. Первые пять всадников уже обошли убежище с запада и рыскали по равнине.
Колеса повозок продавили колею в росистой траве. Стебли не успели подняться. Всадники заметят след, если еще не заметили.
Сейчас Георгий видел одновременно уж не меньше сотни конников. Раскинувшись широким веером, конники охватывали несколько стадий. Не ромейская повадка у них. Федераты. Прикрывают легион, посланный вслед варварам. Георгий опоздал на один день.
Убедившись, что всадники напали на широкие полосы, оставленные колесами, бывший центурион слез с ивы.
Так приходит смерть. Средь белого дня или ночью, непрошеная, неожиданная, но неизбежная. «Как что? – подумал Георгий. – Не все ли равно…» Вчера он так громко хвалился, искушая Судьбу. А Судьба уже дышала ему в лицо.
Солдаты не обременят себя доставкой скамаров в город, чтобы там префект получил удовольствие посадить разбойников на кол для назидательного примера подданным. Солдаты милосердно перебьют скамаров и воспользуются добычей.
Умирают все, рожденные женщиной. По-настоящему люди отличаются один от другого только умением умирать. Георгий живым не дастся никому. А может быть, предложить ромеям добычу без боя?
– У вас есть ситовник с печатью. Вы не скамары, – сказал Георгий Индульфу. – Зачем вам пропадать вместе с нами! Скажи ромейскому начальнику, что мы взяли вас в плен. Он вас отпустит. И наверное, если вы дадите ему донатиум. Предложи ему сделку: мы обменяем нашу добычу на свободу. Помнишь, я говорил о крысах? Но за наши шкуры ему придется хорошо заплатить.
– Не показывай ему всех денег, приготовь пять статеров, этого хватит! – крикнул вслед Индульфу бывший центурион.
Товарищей сразу заметили. Вот кто-то, собрав около себя десяток конных, будто горстью бросил их. Всадники вновь рассыпались, готовя луки.
Гунны или герулы… Рука, поднятая Индульфом, остановила не скачку, а стрелы, уже лежащие на тетивах. Всадники осторожно сближались. Кто-то сменил лук на аркан.
Доспехи, крашенные орехом. Чужие остановились в двадцати шагах.
– Кто вы, люди? – крикнул коричневый всадник.
И Голуб, радуясь не спасенью, а славянскому слову, ответил:
– Свои ж мы, свои! Вашего языка мы люди!
Долго смотрели на страны Теплых морей Индульф с Голубом. Видение чужого изменило душу, которая светит в глазах человека. Ратибор не узнал давних друзей по Торжку-острову. Те же сразу увидели в матером князе россичей старинного соперника по силе и удали. Пришлось напоминать о себе.
Алфен захотел остаться со скамарами. Голуб попрекал товарища:
– Ты же сам решился идти с ними на север. Ломаешь ты дружбу.
– Я хотел уйти навсегда из империи, и я любил вас обоих, – объяснял Алфен. – Я решался забраться далеко и быть глухонемым среди людей чужого языка. Скамары живут вольным законом. Георгий дает мне женщину, которую я захотел. Вы, бывшие всегда свободными, никогда не поймете, что значит для меня иметь женщину, свою, навсегда и по сердцу… А еще – я смогу мстить владельцам рабов.
И стал Алфен уже чужой, уже отрывался и падал в прошлое Алфен вместе со сколькими другими, о которых, живы они или нет, сердце уже говорит, а язык повторяет: они были…
И опадала империя, как пыль с ног.
И, как пыль, застревала в горле.
Пыль душила. Пыль ослепляла. Истолченная земля Фракии сделалась подобной мучному высеву больного зерна, горькому, черному, как ядовитый уголек спорыньи.
Давно минул длинный день. Лето повернуло на осень. Стояла сухая пора. На Роси началась косовица хлебов, и туда летели души россичей.
Зрелые поля Фракии догорали под копытами славянских лошадей.
Шли знакомой дорогой, старой дорогой к подъему на Планины. Посылали дни вдогонку дням, бросая время, как изношенный постол.
Истоптана земля. Нет жизни нигде, нигде. Возвращаясь к себе раньше россичей, уголичи подмели Фракию.
В пыльных остях объеденной скотом травы скалились голочелые остовы лошадей, быков, людей.
Подобно опоздавшей кулиге саранчи, россичи со своим необозримым обозом доедали последнее.
Безжизненно стыли крепости, в которых прятались имперские когорты, ныне бедные духом, а потому и слабые телом.
Россичам, обремененным заботой о сохранении уже взятого, не нужны были каменные клетки. Теперь россичи знали, как вынимать ромеев из стен. Камни не собой сильны – людьми.
Окрепнув, Малх садился на смирную лошадь. Голуб рассказывал о пережитом с ильменской острой издевкой. Индульф – желая проникнуть в смысл событий и не находя его. Для чего была прожита жизнь?
– Все, все, все… Все, кто ушел с нами на Теплые моря искать невозможного, растаяли снегом на солнце. Мы были как семена, разбросанные в диком, темном лесу. Творение, прекрасное в словах, прекрасное для глаз, не таково на деле. Ты помнишь ли, Ратибор, наши речи на острове? Нет того невозможного, о котором я мечтал, нет, нет. Призрак был, туман над озером.
И молчали, и думали, и заканчивал Индульф:
– Однако же изменился наш мир. Нечто совершено руками исчезнувших моих товарищей. И – моей. Что свершено? Я не знаю…
А Ратибор рассказывал о великой войне со Степью:
– С той поры князь Всеслав устроил Рось. Стал широк росский удел. Новая жизнь наша дышит без старого страха перед степными людьми. Сами мы вышли в степь.
– Не помню теперь, чего я хотел, – не мог отвлечься от себя Индульф. – И помню: я грезил о невозможном. Была Византия, Палатий. Там я едва не стал палачом. И там… – но он ни с кем не мог говорить об Амате и продолжал о другом: – Помню Италию, черную страну смерти. Помню себя в битвах без счета. Знаю, но не помню того Индульфа, кто на один миг встал рядом с твоей сильной юностью, Ратибор. Думаю только, что был я тогда чист, бел как рыба. А тебе, Малх, скажу, что будто бы не было того молодого, который отвез тебя в челноке с Хортицы-острова. Я ли был? Я живу. Зачем?
Павшая лошадь лежала плоская, узкогрудая, слабая, с уродливо вздутым брюхом. Дня не прошло, и осталась от борзой красавицы волчья снедь.
Ратибор говорил:
– Много раз, как стрела в воздухе, повисал я со смертью на одном волоске. Побеждал. И думал того только о себе, о своей удаче, о своей силе. Будто все жило и совершалось для меня одного.
Склонив головы, россичи слушали, как если бы не походный их князь, а сами они рассказывали о себе.
– Теперь, достигнув лет, я знаю, – продолжал Ратибор, – я не бессмертен. Не для меня служили удачи мои, победы мои. Их я не возьму на погребальный костер, их не покроет могильный курган. Не передо мною, други-братья, отступала смерть…
Над Днепром, на Ратиборовом дворе, растут два сына и дочь Анея, по бабке. И старший сын уже сильный воин.
– Так, други-братья, – продолжал Ратибор, – ныне я знаю, что живу, дабы служить опорой племени-роду – языку нашему. Мы живем для рожденных от нас и для тех, кто родится от них. Я князь, я граница-защита, я камень в основании очага, как и все вы.
– Твоя правда – моя правда, – подтверждал Малх. – Да живут россичи своей волей, своим разумом. Остережемся же ромеев. У них бог все вершит своим произволом, потому и нет у них закона, но есть лишь зло. Правды нет у них. Будто бы облекшись волей бога, их базилевсы давят ромеев. Ромеи же лобзают медную пяту. Базилевс прав перед ними, бог за него. Таковы ромеи. Они опасны желанием во всей вселенной поставить своего бога и базилевса.