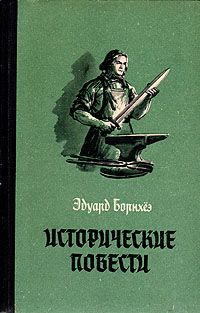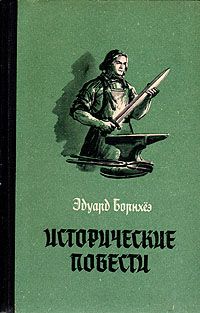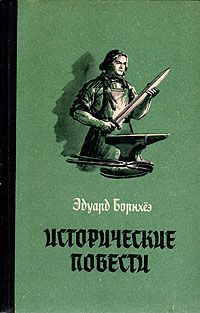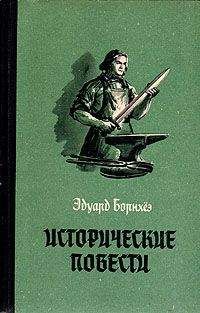Олег Михайлов - Громовой пролети струей. Державин
Генерал Голицын был до крайности удивлён смелости его появления:
— Как? Вы здесь? Зачем?
— Еду по предписанию Потёмкина в Казань, но рассудил засвидетельствовать своё почтение главнокомандующему.
Красивое, с точёными чертами лицо Голицына побледнело:
— Да знаете ли вы, что граф недели с две публично за столом говорил, что дожидается повеления от государыни повесить вас вместе с Пугачёвым!
От такой несправедливой журьбы у Державина дрогнули подколенки, но он отрывисто возразил:
— Ежели я виноват, то от царского гнева нигде уйти не можно.
— Хорошо, — сказал князь, — но я, вас любя, не советую к Панину являться. Поезжайте-ка в Казань к Потёмкину и ищите его покровительства.
— Нет, я хочу видеть графа, — повторил гвардии поручик.
Пришло известие, что Панин вернулся с охоты, и Державин отправился в главную квартиру. На крыльце не счесть пудреных голов, красных камзолов, гусарских, казачьих и польских платьев. Поручик просил доложить о себе. Встретивший его вельможа смотрел сентябрём.
— Видел ли ты Пугачёва? — внезапно с гордостию спросил он у Державина.
— Видел, ваше сиятельство! На коне под Петровском, — с почтением ответствовал гвардии поручик.
Панин позвал Михельсона и повелел привести Пугачёва. Державин понял, что граф тем самым хотел как бы укорить его за то, что он со всеми своими усилиями и ревностию не поймал самозванца.
Через несколько минут ввели Пугачёва, в тяжких оковах по рукам и по ногам, в замасленном, поношенном, скверном широком тулупе. Лицом он был кругловат, волосы и борода окомелком, чёрные, склокоченные, глаза большие, чёрные же на соловом лазуре, как на бельмах.
— Здоров ли, Емелька? — подступился к нему Панин.
— Ночи не сплю, батюшка, ваше графское сиятельство, — глухо ответил пленник.
— Надейся на милосердие государыни! — важно сказал Панин, оттопырив полные губы, и повелел отправить пленника обратно.
Как бы позабыв про Державина, граф поворотился к нему спиною и ушёл за столы ужинать. «Ишь, сердитка, — подумалось поручику, — но ведь я гвардии офицер и имел счастие бывать за столом с императрицею». С этой мыслию он без особого приглашения вместе с прочими штаб- и обер-офицерами прошёл в залу и сел за столы.
Почти в самом начале ужина Панин кинул взором сидящих, увидел и Державина, нахмурился и, по своей привычке часто заморгав, поспешливо встал из-за столов, сказав, что позабыл отправить курьера к государыне. Поручик сие принял за грозный знак, но сдаваться не хотел.
На другой день до рассвету Державин снова явился на квартиру главнокомандующего и просил камердинера доложить о приходе своём его сиятельству. В приёмной галерее мало-помалу собирался генералитет и офицеры. Наконец, по прошествии нескольких часов, около обеда, Панин вышел из кабинета. Он был в сероватом атласном, широком шлафроке, французском большом колпаке, перевязанном розовыми лентами, глядел скоса, маленький пухлый рот был гордо поджат.
Когда Панин проходил мимо него, Державин с почтением взял его за руку и сказал:
— Я имел несчастие получить вашего сиятельства неудовольственный ордер. Беру смелость объясниться!
Граф удивлённо поглядел на него серыми проницательными глазами и велел идти за собой. Проходя анфиладою комнат в кабинет, Панин гневно бранил гвардии поручика за его действия в Саратове и неуважительное обхождение с комендантом Бошняком.
— Это всё правда, ваше сиятельство! — переждав окрики, ответствовал с твёрдостью Державин, чувствуя, как прихлынули к нему в решительный миг силы. Ах! Ведь правду о себе и других в сём свете высказать можно только в виде самой грубой лести! — Я виноват пылким моим характером, но не ревностной службою. Кто бы стал обвинять вас, ваше сиятельство, что, быв в отставке, на покое, из особливой любви к отечеству приняли вы на себя в толь опасное время предводить войсками, не щадя своей жизни! Так и я, когда всё погибало, забыв себя, внушал в коменданта и во всех долг присяги к обороне города.
Что-то дрогнуло в лице вельможи, и внезапно слеза пролилась из его глаз.
— Садись, мой друг, — сказал поручику Панин. — Я твой покровитель!
Камердинер доложил, что генералитет и штаб-офицеры желают его видеть. Отворились двери, и в кабинет вошли князь Голицын, генералы Огарёв, Чорба, полковник Михельсон. Голицын вскинул на него тёмные с поволокою глаза, желая понять, что произошло; Державин с весёлым видом ответствовал, что гроза миновала. За обедом Панин показал ему место против себя и говорил почти с ним одним, рассказывая про прусскую Семилетнюю войну, потом про турецкую и более всего о взятии под его предводительством Бендер в 1770-м году, чем он весьма превозносился.
После обеда перешли за карточные столы. Панин сел играть в вист с Голицыным, Михельсоном и секретарём своим, в коем поручик узнал прежнего директора Казанской гимназии Верёвкина. Он уже приметил сильное любочестие и непомерное тщеславие сего вельможи, но его слабостию не умел или не хотел воспользоваться. Державину уже казалось, что опасного обороту никакого быть не может, а как он не желал тут попусту зевать, то подошёл к графу и спросил его:
— Ваше сиятельство! Не будет ли каких приказаний? Я сейчас еду в Казань, к генералу Потёмкину...
Панин переменился в лице.
— Нет, — холодно сказал он и отворотился от поручика.
Всю осень 1774-го года Державин провёл на Иргизе, в тамошних скитах для сыску раскольничьего старца Филарета. Там поручик по неосторожности простудился и получил сильную горячку, от которой едва не умер. По выздоровлении он не был допущен, как прочие его сотоварищи, гвардейские офицеры, в Москву и весну и часть лета 1775-го года провёл в немецких колониях праздно. Наконец прибыл ордер, повелевающий явиться и Державину в первопрестольную. В дороге ему передали лестное приглашение от герольдмейстера князя Михайлы Михайловича Щербатова, получившего от государыни державинские реляции для сохранения в архиве с прочими бумагами текущего века.
При свидании с ним князь сказал:
— Вы несчастливы, поручик! Граф Пётр Иванович Панин — страшный ваш гонитель! При мне у императрицы за столом описывал он вас весьма чёрными красками, называя дерзким и коварным...
Как громом поражённый, Державин только и мог молвить:
— Когда ваше сиятельство столь ко мне милостивы, что откровенно наименовали мне моего недоброхота, толь сильного человека, то покажите мне способы оправдать меня против оного в мыслях всемилостивейшей государыни!
— Нет, сударь! — ответствовал Щербатов. — Я не в силах подать вам какой-либо помощи. Граф Панин ныне при дворе в великой силе, что я противоборствовать ему никак не могу...
— Что ж мне делать?
— Что вам угодно, — потупился князь. — Я только вам искренний доброжелатель.
Приехав на квартиру и размысля неприязнь к себе сильных людей, Державин пролил горькие слёзы.
Итак, надобно было всё начинать сызнова. Бедность вновь стучалась к нему в двери. И даже не бедность — разорение. Перед отъездом в Казань поручик по простодушию своему поручился за знакомого гвардейского офицера, который не только не расплатился с долгами, но в уклонении от платежа бежал невесть куда. Банковское взыскание было обращено на Державина, а материнское имение взято под присмотр правительства. Военная карьера была оборвана. Державин, который мог своими сообщениями двигать корпусами генералов, посылать лазутчиков, казнить смертию, допустил строевую оплошность, командуя ротой, наряженной на дворцовый караул. Сам Румянцев, великий полководец, но в отношении ученья и щегольства солдат великий педант, наблюдая из окна, полюбопытствовал, что за растяпа отдаёт толь неверные команды.
За это несчастное для себя время Державин только и успел сделать, что написал тощую рукопись под названием «Оды, переведённые и сочинённые при горе Читалагае 1774 года».
Глава третья
ВОСХОЖДЕНИЕ
Как сон, как сладкая мечта,
Исчезла и моя уж младость:
Не сильно нежит красота,
Не столько восхищает радость,
Не столько легкомыслен ум,
Не столько я благополучен:
Желанием честей размучен;
Зовёт, я слышу, славы шум.
Державин. Ода на смерть князя Мещёрского1
Хераскова[28], на Моховой, в его огромной московской квартире при университете собрался весь литературный Питербурх: ещё не отшумели празднества в первопрестольной по случаю мира с турками. Здесь были секретарь Никиты Панина, чиновник коллегии иностранных дел Денис Иванович Фонвизин; библиотекарь и личный чтец императрицы Василий Петрович Петров[29], только что вернувшийся из Англии, где он переводил «Потерянный рай» Мильтона; питомец Московского университета и ученик Хераскова Ипполит Фёдорович Богданович[30], выпустивший недавно том изящных виршей «Лира». И вельможа, известный двору и литературе, управляющий российскими театрами Иван Перфильевич Елагин[31], насмешник, волокита, гастроном, секретный доверенный государыни по амурным делам и фанатик-масон. Впрочем, масонами были чуть не все. Московская знать — Голицын, Трубецкие, Лопухины, Щербатовы, сам директор университета Херасков и его ученики.