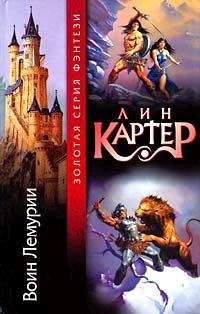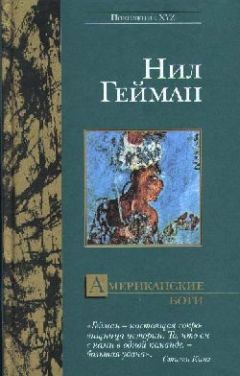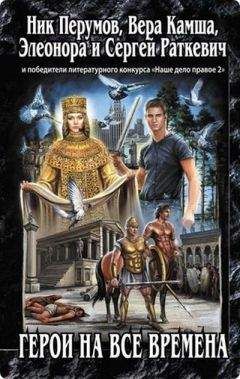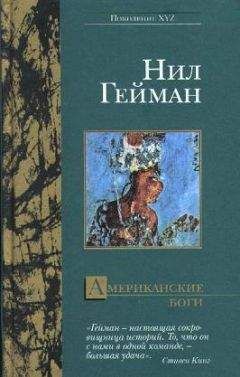Татьяна Алфёрова - Поводыри богов (сборник)
Вышел вперед кощунник, тронул струны, повел рассказ о Купале, приведенной в жены к Ящеру, утопленной в Волхове, об их свадьбе в речном царстве, на желтом дне в светлом перламутровом дворце. Сотня имен была у Купалы, но как бы ни называли ее, хоть Персефоной, хоть Прозерпиной, должна была на полгода спускаться к супругу в подземный мир от ясных глаз золотого солнца. Сотня имен у Ящера, но как бы он ни звался, хоть Аидом, хоть Посейдоном, не мог удержать жену более полугода, ускользала, возвращалась наверх к солнцу и людям с первым жаворонком. Люди слушали кощунника, дивились, глазели издалека, как жрецы почтительно подносят жертвы идолам, благодарят и просят, но просят чаще; как улыбается сверху с чистых небес добрый бог Белый Свет, Дажьбог.
Поднимались к небу знамена с зашитой по углам полотнища чародейной травой, звенели жезлы, возвещая ритуальный танец, кружились плясуньи, летели длинные рукава купальских рубах, летели и не догоняли хозяек, кружились русальцы, обученные плясуны, топали ногами и прыгали, падали на землю в изнеможении. Главный волхв, нарядный, щеголеватый, разбивал глиняный горшок с травой дивосилом и чесноком, возвещая окончание обряда. Бегали младшие волхвы, провожая высоких гостей в хоромы с земляными, пряно пахнущими лавками – напротив требища, сотрапезничать с богами. Простой люд растекался, плескался по холму: праздновать Дажьбогу, Мокоши, пить миром сваренное пиво, плясать, топать ногами, вести хоровод.
В прохладных хоромах на земляные лавки, покрытые нежным дерном, сто гостей садилось против князя, а другое сто – по левую руку, и третье сто – по правую.
Встал князь Игорь, поднял рог с чеканной оковкой, чуть не полведра хмельного меда вмещал рог. Не как рядобную чару поднял рог, не пустил по кругу – поднес в дар верховному жрецу. Княжеский дар с хитрым узором. Многомудрый жрец-хранильщик придумал и растолковал искусному серебрянику, как чеканить узор: два дива, как живые, поводят клювами, расщеперя гребни; бежит хорт-пес за зайцем, цветет хмель, переплетаясь гибкими стеблями – выше, выше. Купала в нарядной вышитой рубахе держит тугой лук нежными полными руками, вот уж легкие стрелы летят, попадают в Ящера-Кащея.
Богат подарок, велика честь. От радости верховный жрец пошатнулся, побледнел от восторга. Протянул обе руки за рогом, пригубил мед. А князю мало праздника. Хлопнул в ладоши, подал знак, и встал новый кощунник перед пирующими. Новый, да известный: лучший кощунник старого князя Олега по прозвищу Соловей, тот, кто только-только приехал из чужих земель вместе с купеческими караванами. Не стал в Царьграде ждать русских послов, снаряженных новый мир с греками подписывать, раньше уехал, видать, князь Олег его воротил.
Одетый богаче и прихотливей главного волхва, в однорядке невиданного узорного сукна с золотым шитьем, камчатом плаще, плетеном серебряном поясе, Соловей поклонился собранию, и вздрогнул на дальнем конце стола кудесник-деревенщина в худом бедном платье. Кощунник завел песнь, растолковывающую узор на дивном роге, даре князя Игоря верховному жрецу. Песнь о Кащее и его смерти, укрытой в зайце. Потому от зайцев и жди худа, поворачивай домой, коли дорогу перебежит… Похищает Кащей прекрасную белотелую деву, но не Моревной зовет ее сказитель, не Русой-Русой, не Купалой. Зовет ее греческим именем, непривычным уху, неловким, но чудесным – Анастасия, что значит – воскресение. Чтобы выручить Анастасию, надо выпустить Кащееву смерть, но ни пестрая птица-ястреб, ни быстрый хорт-собака не могут поймать смерть-зайца. Дунул див, дохнул другой, вся округа взволновалась, все леса, и поля, и моря, и реки. Волшебная сила взметнула стрелы на Кащея. Как первая стрела изломилась, вторая – изогнулась, а третья стрела летит прямехонько, вот она, смерть Кощея – Змея-Ящера.
Шла чаша по ряду, хмелели гости, ноги перед скамьей расплетали, забывали о новом кощуннике Соловье. А тот, нарядный, шептался, перемигивался с волхвом-деревенщиной, и оба радовались встрече.
Угасает день, Ящер разевает пасть, ждет нареченную. Выходят из хором высокие гости, поднимаются с земли прочие, ведут невесту-красавицу, увенчанную плетеным цветочным венком поверх голубой камки фаты, в пышном свадебном уборе, к реке. Волхвы несут следом волшебное зелье из дягиля, высокой и сильной травы, цветущей малыми солнцами. Подружки невесты несут творожные лепешки, медвяные калачи и горшки с гороховой кашей, поют печальные песни: «Где твоя невеста? В чем она одета? Как ее зовут? И откуда привезут?» – а глаза их смеются и весело звенят на смуглых щеках серебряные колты, подвешенные к парадным венцам. Плачет невеста, мочит ресницы пальцем, измазанным в молоке, а полные губы горделиво изгибаются – сколько народу смотрит на нее, сколько народу избрало ее самой красивой из всех, то-то осенью от женихов отбоя не будет. Много народу, но могло быть еще больше. Великий князь, вещий Олег не приехал. Молодая разведет костер – первый из костров на берегу – без великого князя. Не жалует он народные праздники. Лишь Перуна да своих урманских богов чтит. А наследник, подколенный князь Игорь, не гнушается. Жены его, княгини Ольги, правда, не видно, отбыла давеча в кремль. А то ж, у князей и людей их свои боги, свои обряды. Но наследник, хоть и княжьего племени урманского, будет к реке вечером, и дружина с ним. Ах, какие красавчики, какие ладные. Покупаться бы с такими, полюбиться бы… И падают, падают девичьи сердца на самое дно Волхова, Ольховой реки. Причитает на берегу певунья с распущенными тяжелыми волосами, выбранная «мать» невесты, щеки ее в полосках золы в знак горя, просит жалобно:
– Не берите воду, не косите травы на берегу, не ловите рыбу – не рыба это, а тело моей дочери, не трава, а коса ее, не вода, а краса погибшая.
Катятся огненные колеса с крутого берега, горят костры из дубовых сучьев, пахнет зажженным конопляником, привязанным к купальскому столбу, взлетают над кострами легкие ноги. Пары, взявшись за руки, бегут к реке, чтобы унять жар, смыть сладкую усталость и снова ринуться на ненаглядного врага, впечатать нежную спину в теплую траву, иссушенную солнечным желанием, или прямо в речной песок, захлебываясь от воды, несвязных слов и блаженных стонов. Бурлит поток от яростного сплетенья тел, не разберешь, человечьих ли, рыбьих, русалочьих. Пританцовывают чаши, малыми букашками ползут с их стенок знаки плодородия, бегут по песку, плывут по воде, забиваются под рубахи и поневы, жгутся, щекочут ножками, и нет от них спасения, не спрятаться, не укрыться нигде, разве что в объятиях, в другом теле, снедаемом тем же недугом. Тогда успокаиваются знаки, засыпают, чтобы к весенним Комоедицам, ровно через девять месяцев, огласить округу звонким воплем нового рождения. И новые чаши вращаются на гончарном кругу, бесконечном кругу, череде рождений и желаний, череде смертей: малых, в тесных объятиях, и настоящих смертей, тех, о которых никто не вспоминает купальской ночью, задыхаясь и исчезая в темноте глубокого короткого сна.
21
Еще не угас день, не звенели голоса на берегу, не шлепали волны прохладной ладонью по горячим телам, а запах дыма плыл еще сверху – от холма, где чествовали славянскую богиню, а не снизу, от Волхова и ночных костров на берегу. Но зной уже сдавался, и солнце в огненной колеснице, запряженной дружными лебедями, неслось к западу. Распрямлялись травы, жадно пили подземную воду, кому сколько достанется. Вдоль берега травы выше и зеленее, богаче и мягче, ближе к холмам – пониже, поскромнее, как люди из торгового города и дальних поселений. Одни и те же люди, но горожане пьют и едят слаще, одеваются чище, характеры у них привередливее. Много у княгини Ольги в саду заморских цветов, привезенных издалека, пышных, ярких, не все они, изнеженные теплом и водою в достатке, переживают суровые северные зимы, а любит княгиня неприхотливые васильки цвета неба, ромашки с желтым, что солнце, сердцем и мелкие маки, алые, как кровь.
В тереме у княгини прохладно, толстые стены не пускают зной, узкие окна – только для шустрых ветерков, не для яростных лучей играющего солнца. Прохладно, тихо. Княгиня прилегла на широкое ложе, застеленное покрывалом тонкорунных золотых овец, прибежали девушки, принесли светлого меда, ранней земляники. Не пила и не ела Ольга, провалилась в сон, а сон не мягкий, не ласковый, возвратил тот сон вчерашний разговор с мужем, да только не вдвоем они говорили, а еще кто-то сидел сбоку, темный, страшный, мудрый. Растолковывал княгине то, что скрыто за речами, пугал.
Вчера вечером, поздно, перед самым большим ладожским праздником, князь Игорь послал за ней. Ольга подосадовала в душе. Завтра ей нелегко придется: сидеть на солнце, с тяжелым и таким же круглым, как солнце, животом, дышать зноем и жертвенными кострами, благодарить русальцев, говорить с гостями, со жрецами, а муж зовет ночевать. Неужели не мог обойтись своими девушками, вроде достаточно их в кремле, не всех, поди, и помнит-то, к иной не входил ни разу. Держит для подарков – не больно муж яростен на ложе. А девушки все как одна мечтают понести от него, стараются соблазнить. Первенец от князя – великая честь и большая удача. Любой возьмет такую девушку в жены, даже боярин. Ведь женское тело хранит память о первом мужчине до тех пор, пока в чреве завязываются дети, и все последующие дети также унаследуют княжеский блеск и частицу княжьего семени. Вздохнула Ольга: хоть местные бояре, словенские да меря, удивлялись свободе варяжских жен, отказать мужу в такой просьбе нельзя. Нянька и девушки убрали княгиню, умастили драгоценным греческим маслом, расчесали, вдели в уши тяжелые серьги. Пошла Ольга, и нянька с нею.