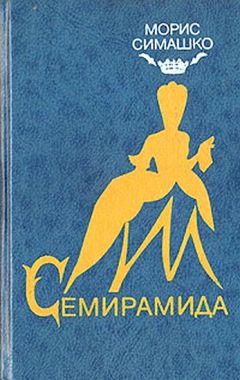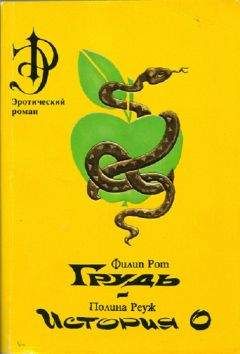Морис Симашко - Семирамида
Вроде бы его в чем-то винили, кричал Астафий Матвеевич, не замечая, как слезы текут у него но лицу и белой бороде. И все говорил, говорил. Подпоручик растерянно улыбался, поглаживая избитое плечо.
— А что русский дворянин за правду вступился, так это подобно гишпанскому собрату, который горшок заместо шлема надед да с ветряными мельницами в бой вступал, — уже спокойнее заговорил старик, — Коли так все идти станет, то и дворян придушат, совсем безгласой Россию оставят. Рано или поздно все в услужение пойдем к этим со свайками да удушками. И честью русской будем считать, когда допустят постоять при проезде. Еще и оды станем им слагать. Самое рабское то удовольствие оды про себя слушать!
Много еще говорил Астафий Матвеевич про долговременность пути к совершенству. Василий Никитич Татищев, обширного ума человек, пришел к тому, что лишь терпеливое умопросвещение открывает дорогу народам к счастью. Петр Великий выдернул Россию из невежества и поставил на ту дорогу. Да только рабское состояние вроде палок в колеса на каждой версте той дороги. Когда б хоть на четверть века перестали пугать: дыбой, шпицрутенами, Тайной канцелярией. А видя сие несчастное народное бессилие, какому подлецу не захочется поупражняться в безнаказанном злодействе. Вот и будет стократно пугать, так что даже надиршаховы художества игрушкой покажутся. Тот по десятку свежует людей, а тут со всего народа сразу станут шкуру спускать. Выделают, потом набьют соломой, и будет внешне как живой!..
Подпоручик Ростовцев-Марьин встал утром и не мог понять, что же мешает свету попадать в окно. Он подошел и увидел висящие на уровне глаз босые ноги. Из-под потолка улыбалось ему склоненное набок лицо Астафия Матвеевича. Веревка была подвязана к железному крюку над окном, внизу лежала на боку брошенная скамеечка…
— Вот и делу конец, спаси господи! — сказал острожный комендант и перекрестился. — Тем обыкновенно и кончается, когда следствие прямой улики не имеет. Идет дело в сенат, потом обратно в суд, оттуда по месту совершения для нового опросу. А к тому месту из Астрахани в три года раз только шхуна ходит. Да и туркменцы сегодня здесь, а назавтра кибитки сняли и, глядишь, уже в Хиве. Выходит, в Оренбург опять надо дело пересылать…
Подпоручик сидел, и все пусто было у него внутри. Даже когда пришли и сказали, что по ходатайству архиерея Димитрия его увольняют от всякой вины, он не слышал того. Когда уходил из острога, комендант дал ему дощатый сундучок с книгами да бумагами. На полулисте сверху значилось: «По самовольной кончине моей прошу сии бумаги вяземского дворянина Астафия Матвеевича Коробова передать во владение дворянскому сыну Александру Ростовцеву-Марьину в память и поучение…»
Четвертая глава
Ничего не произошло…
В ее ожидании не было страха или предчувствия невероятного. Когда накануне многоопытная фрейлина давала подробные пояснения в отношении этого, она все уже знала. Ей трудно было сказать откуда, но с самого детства присутствовало в ней это знание. Еще когда увидела в полутемной комнате некую графиню в любовных объятиях, то понимала, что происходит.
Фрейлина даже легла на обитую голубым шелком канапе, показывая, как следует вести себя испуганной неопытности в ответственный момент. При этом приоткрыла рот, закатила глаза и негромко даже вскрикнула «Ах!».
А перед самой дверью в приготовленную для них спальную залу императрица обхватила ее руками, жарко зашептала в ухо: «Он после болезни слабенький, наш голубок… В случае ежели… погрей как следует его…» И назвала прямо по-русски и французски запрещенные слова. От императрицы пахло вином.
А эйтинский мальчик болтал что-то грубым, не своим голосом. После болезни переменился у него голос, и редкие золотые волоски за ушами вдруг поблекли, сделались вроде сухой щетины. Само лицо у него зашершавилось и при детских чертах принадлежало как бы другому человеку…
Та же фрейлина с двумя камеристками перед тем раздели ее, положили по местам что надо. Она лежала в белых кружевах и смотрела на вошедшего супруга. Он все махал руками, громко хохотал, сидя поверх одеяла, и рассказывал, как ловко подшутил над дьяконом в соборе. Стоя близко, он всякий раз, не показывая внешнего виду, трубил вместе басом, а дьякон пугался и сбивался с голосу. Он изображал ей, как это выходило у него, и снова смеялся. Потом мельком посмотрел на нее, на кружева вокруг и принялся рассказывать, что все уже знает про это: тетка-государыня двух особых фрейлин для того приставила к нему. Одна ему нравилась, и все хорошо получалось с ней, а другая — офицерская вдова, щипала и царапала его.
Она уже много раз слышала от него этот рассказ. И про девицу Карр, как соблазнил ее два месяца назад, он тоже не уставал говорить. Надо было как-то вернуть его в настоящее время.
— Ваше высочество, вам следует отдохнуть от столь волнующего дня! — негромко сказала она.
Он схватился, неосмысленно засмеялся и побежал в боковую дверь. Там послышался его разговор, какой-то стук, потом еще чьи-то голоса, лакейский смех. Где-то за другими и третьими дверями происходило шуршание, доносились приглушенные шаги. Во дворце не спали, откуда-то с дальней улицы слышалась песня…
Мальчик из Эйтина вернулся раздетый, пролез между шелковым пологом. Свечи притухли, и в кремовом сиянии он сделался вовсе чужим. Она чуть отодвинулась, давая ему простор.
А он опять говорил, все махая худыми руками, потом стал трогать ее. Она молчала, не мешая ему, только отвела острый локоть, которым уперся ей в грудь. Что-то наконец получилось у него, он завозился суетливо, обмачивая ей лицо слюной. Сделалось неприятно и слегка больно. Она молча высвободилась, отерла лицо. А он победно махал руками, подрыгивал ногой, дергался телом. И сразу вдруг уснул, скорчившись и притянув колени к подбородку.
Она не стала никого звать, хоть слышала, как подходили снаружи к самому пологу. Сама привела себя в порядок и снова легла, подстелив запасное белье. Он лежал рядом, уткнувшись длинным узким подбородком в подушку и захватывая кружева мокрыми губами.
«Кильский инфант» — она знала, как называли его тут. Так было ей назначено, и за целый год она подружилась с ним. Знак тайный сделался между ними: когда пили вино, то многозначительно говорили друг для друга: «Пусть скорее будет, что нам обоим хочется!» Все происходящее прямо относилось к звезде, увиденной как-то в голубом небе…
Посланник шведской короны, что привез известие о помолвке дяди ее — епископа Любекского, ставшего ныне шведским наследником, и сестры прусского короли, был тот самый человек, который говорил когда-то матери: «Это непростое дитя: посмотрите, сколь серьезен ее взгляд!»
Граф Гиленнборг сразу же подошел к ней и заговорил так же серьезно, как пять лет назад в Эйтине. Благородное лицо его с седеющими висками было твердо, прямой взгляд не принимал подделки, и снова она беззаветно доверилась ему. Три часа говорила она с ним и делала знак великому князю, чтобы не подходил. Потом заперлась и писала два дня, сводя в одно все известное про себя, зримое и невидимое… «Что сотворено и послано богом, не может не быть разумно. Каждому назначена звезда со своим путем, которым человек должен идти старательно и неуклонно, исполняя тем высшую цель. Коль дано мне высокое рождение и назначено управлять этим народом, то со всей радивостью и чистотой духа буду то выполнять. Стану терпеливо сносить горести и неприятности, превозмогать антипатии, удерживать собственные чувства. А также стараться нравиться сему народу умом и сердцем своим. Для того Провидение вывело меня из тяжелой болезни в младенчестве и теперь!»
Она заглавила тетрадь «Портрет Философа пятнадцати лет». Так назвал ее благородный граф, и она принесла ему эту тетрадь для прочтения. Он возвратил се со своими пометками и рассуждениями по поводу совершенствования человека, что прямо ведет к общей пользе. Ее характеристические черты он назвал: рассудительность и разумная терпимость, которые всегда должны наличествовать при управлении народами. А не хватает к тому опытности, каковую надлежит занять у древних мужей Греции и Рима. О том писал Плутарх, поучительна также жизнь Цицерона. Новых же мыслителей нужно начать с блистательного Монтескье, чье имя сияет в просвещенной Европе…
Гремело и сияло среди каменных квадратов. Осыпанная розами, в белой пене кружев плыла она над восхищенными толпами, что бессчетно приливали сюда с неведомых краев земли. Снежно-белые лошади десятью парами плавно влекли колесницу с двумя тронами наверху. Все далеко было видно в прямолинейности проспектов. Сверкая оружьем и шлемами, шли войска. Всякая колонна перемежалась парадным выездом, ибо точно было указано каждой фамилии и персоне первых четырех классов, сколько и каких надлежит при этом иметь карет, пажей, гайдуков, скороходов, ливрейных слуг и арапов, сколько и какого должно быть допущено на улицы народа и как следует ему быть одету. Императрица с радостным лицом, полуоткрывши рот, самолично занималась этим. Даже ленты к лошадям сама подбирала. А венчальное платье вместе с французской модисткой стократно на коленях облазила. Потом, остановившись вдруг и взяв ее за руку, императрица всхлипнула: «Голубушка, у меня ведь той радости так и не случилось!..»