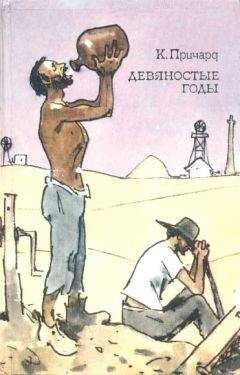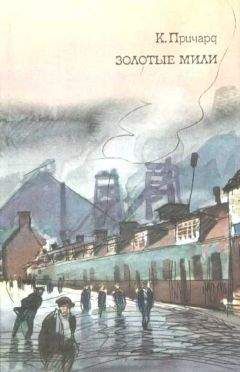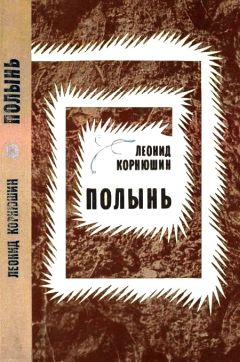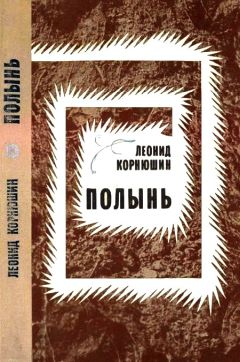Леонид Корнюшин - На распутье
На развилке дорог Серпуховской и Каширской Болотников остановил армию, чтобы дождаться посланного два дня назад к Москве лазутчика. Было промозгло, ветрено. Весна занялась теплая и дружная, и землица-матушка взбухла, налилась вдоволь соками, уже вымахала трава.
День и ночь войска занимали позиции на реке Восме. Воеводы Шуйского с основной силой грудились на южном берегу. Малая часть войска восставших — рязанцы Прокопия Ляпунова и Федора Булгакова — находилась на левобережье. Полдня удача улыбалась Болотникову. Тысяцкий Кологривов, легко раненный пикою в бедро, подъехал к атаману.
— Казаки перешли через Восму. Тыща семьсот сабель. Теперь они засели в буераке, вышибли оттедова рязанцев.
Болотников крякнул: дело ладилось.
— Слухай рассказанье наряду: дать огню по правому берегу, по коннице. Ишо такой нажим — и мы потопим в Восме самих воевод.
Конный погнал к наряду.
…Тем временем Прокопий Ляпунов и Федор Булгаков ловким маневром сумели вывести из-под удара свои сотни и обошли буерак, оставив казаков в своем тылу. Прокопий стоял в кустах, пропуская сотни к реке, торопя их:
— Живо на тот берег! Держать порох сухим! Дай Ивашке власть — согнет людишек в бараний рог. Галерник не за народную волю бьется, а за свой живот да за ляшско-жидовскую сволоту. Он им продал душу. Теперь-то я вижу, — сказал, едва разжав зубы.
Булгаков подтвердил:
— Похоже на то.
— А посему — галерник нам не друг, не брат. Такая же сатана, как и самозванец. Видно, они повиты одною веревкой. Переходим к Шуйскому.
— Мы ворам — не пособники, — снова кивнул Булгаков.
…Клонилось к худому, к измене — это Болотников почувствовал по бестолковой пальбе наряда. Он рысью двинулся к Восме. По полю бежали его воины, иные побросав пики и ружья, спутавшись, как бегущее стадо.
— Назад! Стоять, так вашу!.. — Иван вынул из ножен саблю. — Головы порублю. Назад!
— Воевода Телятевский перекинулся на сторону Шуйского, — донес в это время посыльный.
— Изменил, собака! — выкрикнул хрипло Иван. — Чуяло мое сердце. Скольких людей увел?
— Весь отряд — четыре тыщи.
Цвикавшие пули стригли ветки кустов. Повстанцы, охваченные паникой, бежали под гору, к ближнему лесу.
— Отходим на реку Воронку. Аничкин, уводи наряд туды. Заслони его своими сотнями, — приказал Иван, тронув коня.
Шуйский убоялся уводить все силы от Москвы, на военном совете сказал:
— К Туле идут Каширский да Рязанский полки. Михайло, ты из Серпухова туда же поведешь свои три полка. Обоим войскам соединиться в Павшино. Оттуда идти спешно на Тулу. Я же с остальными полками ухожу покуда к Москве. Да храни нас Бог!
XXI
На третий день сражения Болотников был окончательно побежден и медленно пятился на тылы своей потрепанной рати. Он дрался, не щадя живота, недаром же любил присказку: «Или пан, или пропал». Наступало то, чего он больше всего боялся: людей охватила паника.
Какой-то ратник, весь исколотый, умываясь кровью, дико закричал:
— То смерть наша, братушки! — и кинулся бежать.
Лаврентий Кологривов, Иван Заруцкий, Берсень и человек десять казаков отбивались саблями и прикладами ружей, оберегая Болотникова.
У въезда, около почернелого кабака, Болотникова встретил «царевич Петр» — Илейка.
«Ложный умышленный царевич Петрушка», как многие прозывали его, был холопом Григория Елагина. Жизнь «царевичу Петрушке», верней Илейке, Бог знает кто дал, ибо известно, что он являлся побочным сынком какого-то жителя Мурома Ивана Коровина. Илейка рано осиротел, оставшись прозябать совсем мальцом, но над ним сжалобился нижегородский купец Гроздильников. Взял его с таким условием: «Будешь сидеть в моей лавке, торговать яблоками и горшками, а покрадешь деньги — отдеру плетью и сгоню». Илейка, ленивый от роду, после трехлетнего пребывания у купца подался на Терек к казакам, пристроившись «в работу» — писцом у стрелецкого головы Григория Елагина. И тут высидел лишь зиму; судьба пихнула Илейку еще ниже — «в кормовые казаки для стряпни» на судне; работным казаком Илейка порядочно-таки поболтался и по матушке-Волге, и по Каме, и по Вятке, имел товары у всяких у торговых людей — холсты и кожи, продавал на татарском базаре. Худо-бедно, но прокорм все же был.
Два года ходил Илейка в военных казаках.
…Сидели как-то после рубки хвороста около костра. У казаков чесались руки — нет-нет да и хватались за сабли.
— Погано наше житье! Приспело, паны казаки, хорошо погулять. Хучь горилки добудем, — сказал какой-то казак, похожий на тощего селезня с лиловым острым носом.
— Верно! Надо, братове, пораскинуть умом да поразмыслить, — заметил старый казак с большой люлькой в руках, и все притихли, потому что этот человек ничего не говорил даром.
— Говори, Опанас!
— У покойного, светлой ему, бедняге, памяти, царя Феодора Иваныча был сын Петро…
— Мальчонка, был слух, тады, ишо в зыбке, помер.
— Мы коло той зыбки, братове казаки, не стояли, — продолжал Опанас, раскуривший наконец черную, как головешку, с длинным чубуком люльку. — То баили годуновские выродки. Стало быть, у нас могет быть свой толк… Мы, братове, промыслим Петра-царевича. — Старый казак Опанас повернулся вдруг к незаметно сидевшему на валежнике Илейке, смерив его прищуренным глазом с головы до пят. — Глядите, казаки: вот царевич Петр! Али, скажете, не схож?
— Морда корява, — засмеялся кто-то.
Но старый казак не обратил на это замечание никакого внимания; он смотрел на все с высоты своих лет и предприимчивого нрава.
Илейка порядочно-таки струхнул — у него даже затряслись острые коленки.
— Вы чего это, казаки? — спросил он, заикаясь.
— С этого дня, — сказал старый казак Опанас, — мы тебя нарекаем царевичем Петром, государя Феодора сыном. Как ты спасся-то, твоя забота: придумаешь. А нету ума — придумаем мы.
— Э, казаки! На плаху хочете сплавить! — уперся Илейка. — Так видит Бог — я на нее не хочу. Мне жизнь не наскучила. Я, будя вам известно, мало ишо пощупал баб. Ишь, чево выдумали: царевич Петр! Покорное благодаренье, господа старшины и казаки: мне охота жить, а уж хороша иль плоха плаха, то вы на такое счастье сыщите ково другова. Я тутоки умываю руки. Хорошо съежать с горы, да чижало грабтися на нее. Нет, энто вы, ваше панство, бросьте.
— Будешь с умом — так минуешь плаху, — выговорил старый казак. — Да здравствует, братове, царевич Петр! — гаркнул он во все горло. — Слава нашему государю!
«Вона куды повернулось… А чем я не царевич? Страху-то… Четвертуют… а мне пожить охота…» Но страшное семя тщеславия уже захватило его, великое счастье обуяло душу.
— Не знаю… братове… признаться, я сам думал, что казакам надо иметь свово царя… Хотя бы какого завалящего. Да не знаю, смогу ль? — забормотал Илейка, уставясь на старого казака.
— Поклянись, царевич Петр, что не бросишь на произвол судьбы казаков! — потребовал Опанас. — А бросишь — мы тебя определим на вечное блаженство, на гнилую осину. С казаками шутки плохи!
— Клянуся!
— Надо, братове, идти на море — славно почистим турецких мурз, благо что там судов с шелками да с драгоценностями видимо-невидимо, — заявил казак таких размеров, что его было не обхватить вдвоем. — Господь, я так думаю, панство-добродию, нам простит и не воздаст.
«Стали де казаки думать всем войском, чтобы итти на Кур-реку, на море, громить Турских людей на судах, а буде де и там добыча не будет, и им де было казаком Кизыльбашскому шах Абабасу служить».
— Нам на Каспий нет ходу, — предостерег уравновешенный казак, молча куривший трубку. — И коли выйдет на пиратстве заваруха, не след служить персидскому шаху, бо энто такая шлюха, что нам с им детей никак не крестить!
— Он гутарит верно, — поддержал его товарищ. — Нам надобно служить нашему государю, а не боярам, бо бояре — сволота жирная, наши исконные враги! Не знаю тольки, которому служить: либо Димитрию, либо энтому? — Казак царапнул глазом Илейку.
— Жечь и бить бояр — то должно быть для нашего казачества законом! — ввернул Илейка.
Молодой казак Митька, «астрахансково стрельца сын», губастый и длинноухий, подтвердил:
— Пущай гниды-бояре спытают, востры ли наши сабли!
Илейка вскоре обменялся грамотами с «царевичем Димитрием». «Царевич Димитрий» писал «царевичу Петру»:
«Если ты де сын Федора Иоанновича, то пожаловал бы в Москву, для продовольствия в дороге дано будет приказание: если же ты обманщик — то удались из пределов Русского государства».
Так заквасили еще одного царишку, бо казаки говорили: мы того, путивльского, не знаем, а этого знаем. Съехавшись с Шаховским и переговорив с ним, «царевич Петр» направился к князю Бахтеярову. Князь, сдвинув гневные брови, с презрительной насмешкой глядел на новоиспеченного «царевича».