С. Урусов - Записки губернатора
Не знаю, как и о чем сносились по этому поводу министры, но погромное дело, продолжавшееся еще год, рассматривалось до конца при закрытых дверях.
С разрешения Давыдова, я имел место в суде, за креслами палаты. В случае протеста по поводу моего присутствия, мы хотели сослаться на мое право, как почетного мирового судьи, присутствовать в судебных заседаниях. Однажды, когда за судьями набралось довольно много посторонних лиц, жандармских и полицейских офицеров, чинов прокурорского надзора и т.п., действительно последовал протест со стороны адвокатов, поддерживавших интересы потерпевших евреев. Карабчевский, Грузенберг, Кальманович, Зарудный, Соколов, раздосадованные стеснением гласности суда, заявили об удалении всех посторонних лиц, сидевших за судейскими креслами. Но вслед затем кто-то из них, кажется, Зарудный, от имени товарищей, заявил, что против присутствия губернатора, князя Урусова, они не протестуют. Юдофильство на этот раз мне пригодилось.
Процесс было интересно слушать только в начале, когда допрашивали главных свидетелей. Особенно интересен был допрос Пронина, которого гражданские истцы поворачивали по очереди на горячих угольях, прилагая все старания для того, чтобы обратить его из свидетеля в подсудимого. Пронина уличали в составлении зажигательных воззваний, в распространении опасных для евреев ложных слухов. Удостоверились в том, что ему принадлежали статьи в «Знамени», доказывавшие, что евреи сами учинили погром; старались узнать, кто ему эти статьи исправлял; заставили его признаться, что он ездил к Иоанну Кронштадтскому и заполучил от него известное «второе послание» против евреев. Читали пронинские стихи, заставили его давать ответы, доказавшие невежество свидетеля, и выпускали его отдохнуть только после появления на его лице признаков приближающейся апоплексии.
На первых полусвидетелей-полуподсудимых обращены были и холодный сарказм Карабчевскаго, и. нервная запальчивость Зарудного, и изящная логика Грузенберга, и беспощадные, как удары тяжелого молота, выводы Кальмановича. Затем, когда первоначальный жар гражданских истцов был растрачен в пустыне судебной залы, начались показания свидетелей евреев, после которых стало очевидным, что для определения степени виновности сидевших за решеткой подсудимых нужно было бы обладать даром ясновидения. Свидетели, сидевшие во время погрома в подвалах, видели то, что происходило за две улицы от них, свидетели убийств показывали на разных обвиняемых, все отвечали не на вопросы суда, а на собственные мысли — словом, началась какая-то свидетельская вакханалия, путавшая несчастных судей и мало интересовавшая гражданских истцов. Последние, с самого начала процесса, не прилагали никаких стараний к уличению подсудимых, проводя настойчиво мысль, что главные виновники погрома, вдохновители его, — в Петербурге, а организаторы — в рядах только что допрошенных свидетелей. Убеждение это привилось в широких кругах русского общества и принималось в заграничной печати, как несомненная истина.
Действительный повод кишиневского погрома остался невыясненным до сих пор. По тому волнению и жгучему интересу, которые были вызваны апрельскими беспорядками 1903 г., в России и заграницей и которые не были ослаблены последующими избиениями евреев, имевшими место после октябрьского манифеста 1905 г. в разных городах и местечках, и затем, в 1906 г., в Гомеле, Белостоке и Седлеце, можно думать, что этот первый, после долгого перерыва, еврейский погром не будет забыт и займет когда-нибудь исследователя русской истории первых лет XX-го века.
Я сознаю поэтому необходимость упомянуть здесь о тех впечатлениях, которые остались в моем уме по поводу возможной роли различного рода влияний в подготовке тех беспорядков, которые в пасхальные дни 1903 г. отняли у кишиневских евреев 42 жизни и причинили им, по крайней мере, миллионный убыток. Но при всем старании отдать себе ясный отчет по поводу упомянутого происшествия и несмотря на желание изложить свои впечатления беспристрастно и подробно, я могу наметить только слабые и мало определенные черты тех предшествовавших погрому явлений, которые имели место в моем отсутствии и которых я не мог всесторонне обследовать.
Прежде всего я должен категорически заявить, что в секретном деле департамента полиции, которое я внимательно изучил перед приездом в Бессарабию, не было ни одного намека, дававшего повод предположить, что министерство внутренних дел считало желательным допустить не только избиение евреев, но даже какую бы то ни было антиеврейскую демонстрацию, хотя бы в форме безопасной для жизни и имущества жителей города. Иначе и быть не могло, так как во главе департамента стоял в то время А.А. Лопухин, бывший прокурор московского и петербургского судов и харьковской судебной палаты, приглашенный министром Плеве для упорядочения полиции по широкому плану, выработанному Лопухиным в общих чертах и представленному им министру при своем вступлении в должность. Плеве любил указывать (в тех случаях, когда его обвиняли в реакционерстве) на нового директора департамента, с целью показать, что он ищет людей с широкими взглядами и безупречным именем. Действительно, Лопухин пользовался прекрасной репутацией в судебном ведомстве, и от него ждали многого. Он явился жертвой политики министра, постоянно откладывавшего созидательную работу, и был затянут поневоле в круг деятельности Плеве, впервые применившего формулу: «сначала успокоение, а потом реформы». Тем не менее, влияние Лопухина не раз смягчало и вводило в законные рамки железную волю и диктаторские замашки министра, который, считая директора департамента либералом, все же продолжал его уважать и нередко ему уступал. Близость моя к Лопухину, основанная на родственных и тесно дружеских отношениях, дает мне возможность утверждать, что подозрение относительно участия, в описываемое мною время, подчиненного ему департамента в устройстве погромов — совершенно недопустимо.
С большим сомнением я отношусь и к известию о письме, будто бы написанном министром внутренних дел бессарабскому губернатору и оглашенным в английских газетах. В письме этом, в осторожных, но прозрачных намеках рекомендовалось губернатору снисходительное отношение к активной борьбе христианского населения с его врагами и притеснителями — евреями. Я только один раз, и то очень давно, прочел это апокрифическое письмо и потому передаю его содержание неуверенно и, во всяком случае, только приблизительно. Но в поддельности его я глубоко убежден. Плеве не был способен на столь неосторожный поступок и ни в каком случае не рискнул бы оставить доказательства своих провокаторских планов в руках губернатора, которого он почти не знал и которому мало доверял, даже если бы он хотел встать на путь погромной политики, а такое решение с его стороны представляется мне в высшей степени сомнительным. Но, оставляя в стороне это последнее соображение, являющееся результатом моего личного взгляда, необходимо принять во внимание, что Раабен не был подходящим поверенным для такого рода проектов. Он был человеком очень приличным, ничего не искал, начальству не подслуживался и, кроме того, относился к евреям с большой терпимостью. Он сам, лишившись места, пострадал от погрома, долго не мог поступить обратно на службу, несмотря на благосклонное отношение к нему Государя, и получил возможность отчасти себя реабилитировать лишь после смерти Плеве. Так не поступают с доверенными исполнителями щекотливых поручений.
Не был ли в таком случае погром неожиданной и неудержимой вспышкой давно накопившейся злобы, отплатой за давние обиды, проявлением стихийной силы народа, расправой угнетаемой евреями толпы над своим исконным врагом? Столь же решительно отвечаю, что такое объяснение кишиневского погрома односторонне, неправильно и совершенно искусственно.
Нельзя отрицать, что в губерниях, включенных в черту еврейской оседлости, объектом грабежей и насилий скорее всего могут оказаться евреи. Главной причиной в этом отношении являются специальные законы, способствующие развитию взгляда на евреев, как на бесправных граждан и как на опасный для государства элемент. Можно, пожалуй, допустить, что некоторые расовые особенности и религиозная исключительность противопоставляют в известных случаях еврейство прочим народностям, причем, однако, следует заметить, что значение обособленности еврейского племени обыкновенно преувеличивается его врагами. Существуют и жалобы на еврейскую эксплуатацию, хотя они раздаются гораздо чаще из рядов людей, наблюдающих эту эксплуатацию, нежели из рядов эксплуатируемого населения. Но все перечисленные причины еще не достаточны для возникновения погрома; нужен ближайший повод для взрыва страстей толпы, а такого повода, который послужил бы началом кишиневского погрома, открыть не удалось, и все сведения, распространявшиеся когда-то о ссоре происшедшей между евреями и православными на Чуфлинской площади, оказались ложными. С другой стороны, в Кишиневе в 1903 г. имели место и другого рода явления, сопутствовавшие погрому, о которых нельзя не упомянуть.

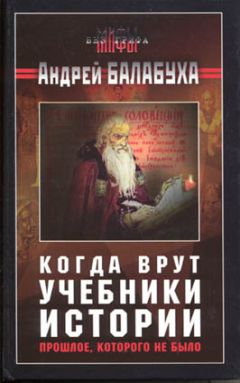
![Андрей Балабуха - Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было [без иллюстраций]](/uploads/posts/books/168497/168497.jpg)
