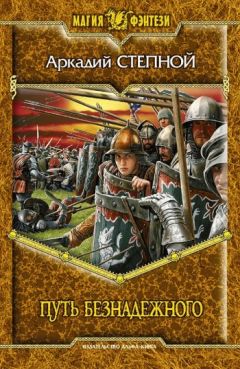Ануар Алимжанов - Гонец
…Казалось, горят не только тугаи, горит вся земля, пылают иссушенные жарой барханы, и беглецам уже не будет спасенья от этого всепожирающего пламени, дымом которого окутано утреннее небо.
Прошел час, два, а быть может, и все три часа с тех пор, как люди покинули свой стан и вместе с испуганными зверями и птицами пробивались к воде. А желанного берега все не было. Выбирались из одного тугая и тут же попадали в другой, заросли камыша то редели, то вновь плотной стеной преграждали дорогу.
Сквозь густую завесу дыма показалось утреннее солнце. Необычное, кроваво-красное, как при закате, огромное, стремящееся пробить свои лучи сквозь черную дымовую завесу, но пока что плывущее как огромный, раскаленный щит за этой черной завесой. Но вот сквозь разорвавшуюся пелену дыма прорвались его лучи, и в этот же миг люди увидели широкую, почти в несколько верст, длинную до бесконечности песчаную полосу, отделявшую воды Алтынколя от зарослей диких тугаев.
…Люди спаслись от огня и, хотя многие потеряли свой последний скарб, хотя с новой силой заныли прежние раны, хотя исчезли последние запасы муки и в клочья изорвалась одежда, измотались кони и верблюды, но не это было главным. Главное было то, что все остались живы — кроме Накжана. Да еще потерялся бродяга старец Табан. Куда он исчез? Погиб в огне или растерзан зверем? Никто не видел его. Никто ничего не знал о нем.
— Где тот старец, которого ты привел с собой? — спросил Манай у Каражала.
— Этот странный скиталец не боялся смерти. Он часто говорил, что смерть от огня священна, говорил, что люди его племени часто кончают жизнь самосожжением… — ответил Каражал.
Люди двинулись по берегу великого Алтынколя на северо-восток по ровному пустынному песчаному берегу, на котором оставили свои следы звери и птицы, вырвавшиеся из объятий огня и умчавшиеся, улетевшие в поисках спокойного клочка земли.
Манай спешил. Он чувствовал, что ослаб, что теряет последние силы. Его мучила тоска по сыну, он считал себя виновником гибели своего верного друга Сеита. И еще он чувствовал, понимал, что тугаи не могли загореться сами собой, что в Накжана не мог стрелять кто-то из джунгар — их пока нет в этих краях. Значит, стрелял кто-то из тех, что идут вместе с ним, кто-то из каравана. Но кто? Зачем? Куда девался этот странный бродяга Табан и почему не ищет и не искал его Каражал? Ох, загадки… Загадки и тайны жестокой жизни. Манай уже не властен над этими людьми, что идут вместе с ним. Чья-то невидимая рука управляет ими теперь, управляет и самим Манаем… Но пока некогда искать разгадки всех тайн.
Люди покинули обжитое место. А здесь, на этих песчаных берегах, нет ни одного ручейка. Вода в озере соленая. К тому же вновь началась жара. До захода солнца, самое крайнее — до завтрашнего утра — нужно найти пресную воду. Иначе не стоило и спасаться от огня. Нужно идти и идти вперед. Там, впереди, должна быть пресная вода, должно быть маленькое, голубое, прохладное озеро. Манай не раз слышал о нем. Старики — его сверстники и люди постарше — говорили, что Алтынколь — это мать маленького прохладного озера, со дна которого бьют родники, и потому это озерко называется Балапанколем[45].
…Когда огонь остался далеко позади и уже не было видно зарослей саксаула и камыша, а прямо с пологих берегов Алтынколя начались ровные, выжженные солнцем окаменевшие степи, Манай остановил коня у небольшой возвышенности.
— Здесь мы предадим земле тело жигита — славного сына кереев Накжана… Как звали его отца, сынок? — Манай обратился к Томану.
Томан устало опустил голову и, глядя себе под ноги, сказал:
— Прости, аксакал. Он хоть и молод, но был за старшего. Мы встретились в плену. Не нашлось у нас времени расспросить друг друга о родных.
— Он сын казаха и силы свои отдал за народ. Алпай, отмерь ему ложе на вершине сопки…
Пока мужчины под наблюдением Алпая копали могилу, Манай сидел возле тела Накжана, завернутого во все белое и укрытого белым. Над телом был воздвигнут навес.
Когда жигиты понесли покойника к могиле, Манай, устало передвигая ногами, подошел к воде, постоял, задумчиво вглядываясь в переливающиеся на солнце волны Алтынколя. Соленая вода ласково лизала его ичиги. Он нагнулся, зачерпнул шершавой ладонью влагу, освежил лицо, провел мокрой ладонью по бороде, ополоснул рот.
Вдали на волнах качались не то утки, не то дикие гуси, а над головой то и дело проносились чайки. Их крик был похож на плач ребенка, а быть может, какая-то чайка потеряла своего птенца при пожаре, как он, Манай, потерял своего последнего сына… Ему не хотелось двигаться. Хотелось разжать колени и лечь здесь у воды, смотреть на чаек и спокойно ждать конца. Но он понимал, что не имеет на это права. Там, на холме, ждут его. И он вновь поднялся, стараясь держаться собраннее, крепче.
Женщины наспех готовили еду. Был полдень. Вновь над землей властвовало огненное око аллаха. Вновь жара, а рядом вода, много воды, которую нельзя пить и которая лишь удесятеряет жажду. Какая-то старуха, сидя у воды, тихо причитала.
— Слезы не помогут. Перестань скулить. Нам с тобой уже давно пора на тот свет… — проговорил Манай. — Успокойся. Нам с тобой не положено плакать… — он поднялся на возвышенность. Люди ждали его.
— Бисмилла… — тело опустили в глубокую могилу, головой в сторону Мекки. Манай бросил в могилу горсть земли. А потом все было, как всегда. На сопке вырос маленький холмик свежевырытой земли и, как всегда, Алпай приготовился прочесть последнюю молитву. Манай подошел к нему. Алпай уступил ему свое место. Манай опустился на колени. Все стали на колени позади него.
Он долго неспешно читал молитвы, и те, кто сидел ближе, ясно услышали, что он во время молитвы произнес и имя своего сына — имя Кенже. Отец навеки прощался не только с Накжаном, но и с сыном. Уже поднося ладони к лицу, чтобы вместе со всеми произнести последнее «Аминь!», Алпай взглянул в сторону Маная. Повернув голову, Манай взглянул на него. Его лицо было страшным. Оно было жестоким, суровым. Но глаза выдавали слабость, он тоскливо, с мольбой смотрел на Алпая. Алпай не выдержал.
— Аминь! Аминь! — понеслось от одного к другому. Алпай незаметно поддержал старого друга, который только что мысленно похоронил своего последнего сына. Но вожак мягко отстранил руку друга и встал сам.
— А теперь к дастархану. Помянем усопшего. Пусть дух вместе с нами примет последнюю трапезу здесь, на берегу Алтынколя. Пусть колыбель мертвых сыновей наших будет мягкой. Земля рождает нас, она же и забирает нас в свои объятия… Прощай, незнакомый жигит, прощай, сын мой… Мы скитальцы. Сегодня наш путь лежит на Балапанколь. Здесь среди нас и твои друзья и твои враги, — сказал он твердо.
…Растянувшись по берегу, караван Маная в тот же день достиг Балапанколя. Небольшое, изрядно обмелевшее в это жаркое лето озеро встретило их веселым гвалтом непуганых птиц, даже стадо сайгаков паслось неподалеку. Вода была прозрачной и, стоя на берегу, можно было наблюдать, как стайки рыб весело и стремительно носились по мелководью. Уставшим от страха, от бесконечных тревог людям казалось, что они наконец-то нашли тот уголок земли, где можно без страха и риска воздвигать юрты, копать землянки. Здесь можно жить, не думая о жаре, — вода рядом, о голоде — здесь много птиц и рыбы, и сайгачьи стада здесь не пуганы, быть может, и джунгары сюда не придут. Ведь им нет смысла забираться в такую даль, здесь нет богатых аулов, тучных косяков коней…
Но слова Маная, сказанные им у могилы Накжана, все же тревожили их. Они уже чувствовали внутреннюю неприязнь друг к другу. В их лагерь прокралось недоверие — причина распрей и ссор, причина всех малых и больших бед меж людьми. Как-то незаметно, без особых слов, без видимых ссор люди разделились на два лагеря. Одноаульцы Маная уже потеряли прежнее доверие к тем, кто примкнул к их каравану на этом опасном, долгом и тяжком пути. Это особенно относилось к мужчинам. Даже старик, больной трахомой, уже заметно сторонился чужаков. Прежде чрезмерно словоохотливый, он теперь стал молчалив, замкнут. Ему, как и другим, не давали покоя загадочные слова Маная: «Здесь среди нас и твои друзья и твои враги». Но кто же враг? Кто убил керейца Накжана? Если бы мудрый Манай точно знал убийцу, он давно бы назвал его и сам бы осудил его перед всеми. В таких случаях он бывал беспощаден. Как же быть теперь?
Люди стали зорче, бдительней. Старались не оставлять без внимания все поступки друг друга. Только женщинам было не до долгих и томительных размышлений. Не успев отдохнуть час-другой, они тут же решили перестирать все, что поддавалось стирке. Они торопились. Ведь неизвестно, что на уме у Маная, вдруг завтра снова в путь… Нужно запастись мясом, прокоптить и провялить его на дорогу. Всех, кто может подстрелить уток, диких гусей и подбить сайгаков, они погнали на охоту. Только Томан остался вместе со стариками — в юрте Маная и Алпая. Горю молчаливого Томана сочувствовали все, и все уже знали, что стрела, которой был убит Накжан, хранится у него, и что он сам сказал: это джунгарская стрела. Он, пока добирался до Балапанколя, тайком заглянул в колчаны всех, кто был в караване Маная, и ни у кого не нашел таких стрел — с наконечниками-шестигранниками. Но откуда в тугаях Алтынколя мог появиться одинокий джунгарский стрелок? А если он и мог появиться, то куда исчез? Ведь кругом было пламя. И люди и звери могли спастись лишь выйдя к берегам великого Алтынколя по тем же тропам, по которым выбирались они. А еще — куда же девался этот дряхлый, беспомощный, но в то же время непонятный Табан?