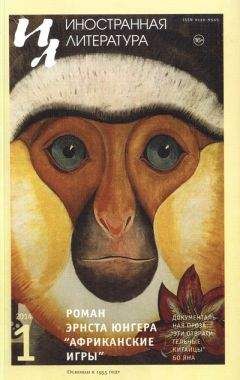Елена Хаецкая - Мишель
Арсеньев вскочил, сдернул с головы треух, метнул в барыню.
— Да что ты понимаешь! Лиза! В конце концов, это смешно!
— Именно, что смешно — в твои лета! О смерти подумай!
— Сама о смерти думай, старуха! — рявкнул Арсеньев. Настроение было безнадежно испорчено.
Елизавета Алексеевна закаменела лицом и медленно вышла. Девочка Анютка подняла треух и робко водрузила его обратно на голову барина. Тот помог, поправил и хмуро уставился в окно.
Неужели не приедет? Снова звякнули бубенцы — Арсеньев дрогнул, но остался на месте, не побежал смотреть. Если приедет, они встретятся.
Да если и не приедет — все равно встретятся…
А только на сердце болезненно щекотало что-то — против всяких доводов рассудка.
Но бубенцы опять оказались чужие. Странно даже подумать, сколько на свете людей — и все не нужны, когда ждешь одного-единственного, а тот все не едет…
Тем временем Анна Михайловна действительно заложила сани и отправилась к Арсеньевым на карнавал. Значение взглядов, которыми угощала ее величественная Елизавета Алексеевна, было для княжны Мансыревой прозрачно, однако разве не отчаянная она женщина, если решилась в незамужнем состоянии встречаться с женатым мужчиной? Будь что будет: разве не старинная татарская кровь течет в ее жилах? А всяк татарин на Руси был царь и делал, что вздумалось…
Подбадривая себя таким образом, княжна неслась на санях, свободно подставляя лицо покалыванию ледяного ветра. Постепенно становилось ей весело, и отдаленная музыка начинала звучать в ее ушах: словно играли уже поблизости, хотя до усадьбы оставалось проехать несколько верст. Она стала смеяться, и пушистый святочный вечер заплясал вокруг нее снежными огоньками. Полозья скрипели по наезженной дороге — звук, похожий на густое жужжание пчелы посреди цветущего клевера. И как будто все радости жизни разом нахлынули в сердце княжны одновременно: и сладкое русское лето, и пьяная снежная зима…
Из мечтаний вырвало ее появление Тришки — арсеньевского человека. Сани стали, княжна высунулась, махнула рукой запросто:
— Что тебе? От Михайлы Васильевича?
— Да-с, — бормотал Тришка, смущенный. Как бы и от этой барыни не схлопотать, письмо-то явно не простое. И что там Елизавета Алексеевна изволила поверх каракулек супруга нацарапать? Дурное дело.
— Давай! — Мансырева вырвала записку из Тришкиных рук. Развернула — на морозе хрустнула бумага — подставила фонарю. Приглашение было составлено в нежных выражениях, просто и вместе с тем сердечно, и тем справедливее представлялись злые слова, перечеркивающие все написанное ранее. Мансырева медленно смяла записку. Увял и праздник в ее душе. Зима вокруг показалась пустой, снежные искорки потухли, невидимые зимние пчелы пали на землю ледяными комками, об которые отныне спотыкаться до конца дней ее…
— Барин не знает, — сказал Трифон, отводя глаза. — Барыня сама… Самолично, властною десницей. А ведь он ждет! — добавил верный Тришка со страданием. — Любовь ибо чувство есть неотделимое от натуры человеческой, и ежели уж отделить одно от другого, то первое скончается без последнего.
— Это правду ты говоришь, — сказала Мансырева.
Тришка чуть смутился и от авторства отрекся:
— Это не я, это Сумароков… Великий сочинитель.
— Он сочинил все из жизни, — сказала Мансырева очень спокойно. Она расправила злополучное письмо на ладони и, велев кучеру получше светить фонарем, написала на чистом месте еще несколько слов.
Вот так просто. Отделить одно от другого — и тем самым убить. «Нам не надобно более встречаться, дабы не вызывать лишних толков. По-прежнему Ваша — Анна. Прощайте, Мишель».
Так, на французский лад, она никогда его не называла. Он был для нее — «милым другом», «сердцем», «Михайлой» и даже «господином Топтыгиным», если она принималась шалить. А от «Мишеля» повеяло ледяным холодом светского, столичного кокетства, неправдой необязательного романа; это наименование любимого человека отменяло все, объявляло ложью — истину, навсегда зачеркивало путь к отступлению…
Понимала ли это Анна Михайловна или повиновалась лишь инстинкту? Бог весть; ее карандашом водила ледяная пустыня, в которую обратилась веселая святочная ночь. Медленно развернула она сани и поехала прочь, к себе.
Праздник был в разгаре. Поначалу Михайла Васильевич был огорчен энергичной сценой, которая произошла между ним и супругой. Он даже подумывал над тем, как бы ее задобрить и восстановить мир в семействе. Но потом вихрь развлечений, которых он сам был организатором, увлек Арсеньева, и он как-то сам собою забыл и о ссоре с женой, и даже о княжне. Только червячок глубоко внутри чуть шевелился: вроде опять бубенцы звякнули, далеко-далеко… вдруг она?
Но — нет, не она, не она, все время кто-то другой, ненужный…
Начинался уже «Принц Датский» — не успеет Анна Михайловна! Да и Бог-то с нею, уже некогда! Слышно было, как вносят стулья, как расставляют кресла и скамьи, как недружно пиликает, настраиваясь, оркестрик. Катерина, переживая грядущее выступление в роли, то принималась ахать и хвататься за грудь с криками «Тошнехонько!», то вдруг бросалась к зеркалу и впивалась взглядом в свои букольки и приколотые к ним живые цветы — не смялись ли.
Наконец подали сигнал, что пора начинать, и явился мрачный дух, погубивший и Датского Принца, и Офелию, и многих других — ради того, чтобы отдать несчастную Данию в руки Фортинбраса…
Михайла Васильевич то и дело оставался в гримерке один. Сидел перед мутным зеркальцем в своем смешном паричке, слушал голоса из зрительного зала. «Точно душа из загробного мира, — думал он. — Отделилась от тела, все еще витает поблизости от живых, все еще может наблюдать их, но участвовать в их жизни более она не в состоянии…»
Подобные размышления не были для Михаилы Васильевича привычны, хотя иной раз и на него накатывало. Бубенцы больше не звякали. Она не приедет. Елизавета Алексеевна где-то там, среди зрителей: холодно торжествует победу. И Марьюшка подле матери, маленькая мышечка с неземными глазюками, затянутая в бальное платьице, точно помещенная в тюрьму. Все молчит, все тишком. Ей уж пятнадцать лет. Какие мысли бродят в гладко причесанной головке, когда она остается по целым дням одна в больших комнатах? Ни отец, ни мать о том не догадываются.
Досада на жену снова поднялась. Если бы не Елизавета Алексеевна, которая наложила тяжелую руку на воспитание дочери, отец мог бы найти в Марьюшке искреннего друга. Брал бы ее на охоту, научил бы высвистывать птиц. Был бы у него близкий человек в семье. Но — нельзя. Больше всего боялась Елизавета Алексеевна, что легкомысленный ее супруг сведет вместе Машеньку с этой женщиной, с Мансыревой.
А что влюбиться в лихую татарку можно — в том сомнений нет. Вдруг и Машенька полюбит Мансыреву более родной матери? Нет уж. Ни на миг не отпускала мать от себя Машу, следила за ней ревнивыми глазами. И все недозволенное, что только могло быть для пятнадцатилетней девочки, происходило у Маши в мечтах и фантазиях, единственном месте, куда властной матери не было доступа.
Вбежала суматошная Анютка, помогавшая актерам, разом выхватила Михайлу Васильевича из философических размышлений и, так сказать, вселила «душу» обратно в «тело»:
— Барин! Пора — Могильщику черед говорить!
Михайла Васильевич взял заступ и, подражая походке старого кучера Ильи, медленно вышел на сцену. Его встретили смехом и аплодисментами, он стукнул в пол заступом и начал говорить. Елизавета Алексеевна сверлила его глазами из зала, но Могильщик этого не замечал. Роль задумывалась как комическая, но Арсеньев играл ее так яростно, с такой желчью, что в зале поневоле затихли. Никто не смеялся: жизнь в изображении Могильщика представала пустой, ненужной, бренной. Телесность, столь любимая Арсеньевым, сделалась обузой, отвратительной ношей. Но хуже всего казалось отсутствие цели: кусок мяса исходит из материнского лона, страдает и корчится, а после становится гниющей пищей для червей…
Анютка, понимавшая не столько красивые поэтические слова шекспировой драмы, сколько внутренний смысл изображаемого Арсеньевым, вдруг разрыдалась, тонко и громко, заткнула себе рот подолом юбки и выбежала прочь. Сосед Степан Степаныч рассудил, проводив ее глазами:
— Чувствительная…
И первым начал оглушительно хлопать, выкрикивая:
— Молодец, Михайла Василич! Ай, молодец!
Арсеньев солидно поклонился и нырнул за кулисы. Там его, чуть смущенный, встретил Тришка.
— Письмо, барин… Прежде отдать недосуг было — чтоб из роли не выбивать.
Такое объяснение Арсеньев нашел удовлетворительным и потому лишь взял из Тришкиных рук записку, мятую, истисканную, как будто покореженную страданиями. Ушел с нею подальше от глаз, в буфетную. Тришка сострадательно проводил его глазами; да тут уж ничего не поделаешь: попал барин между двух барынь, они его, как жернова, в муку перетрут — а помочь нельзя.