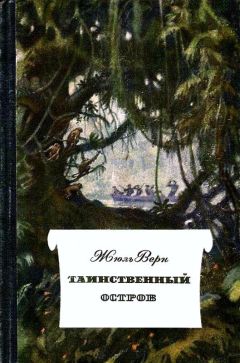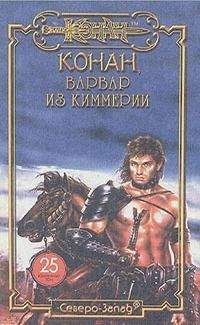Эдуард Зорин - Огненное порубежье
Роман уж устал вглядываться в противоположный берег, вдоль которого тянется полоса соснового леса, ноги онемели, руки измочалили крученый поясок.
Зря волнуется Роман — Юрий совсем недалеко. Еще один перелесок осталось ему проскакать, еще один поворот — и вот он на виду у всех. Каурый конь, екая селезенкой, бочком спускается к реке, за ним торопятся дружинники. Воды коню по брюхо, ноги князя, обутые в дорогие сафьяновые сапоги, захлестнула мутная волна, но он глядит только вперед, на медленно приближающийся берег.
Давно не виделись Роман и Юрий — с того злополучного дня, когда, разбив Глеба на Колокше, Всеволод заточил отца и сына в свой поруб.
Позорное это было время, и вспоминать о нем никому из них не хотелось. Хотя, если вдуматься, все с того и пошло. И дорожки, приведшие их сегодня к этому деревянному кресту со зловещей вороной на макушке, начинались не в Рязани и не во Владимире, а все там же на Колокше, где полегла последняя Мстиславова рать и отборное Глебово войско.
— Здравствуй, брат, — приложив руку к сердцу, поклонился Роман Юрию.
— Здравствуй, брат, — отвечал поклоном на поклон юный князь.
— Не утомила ли тебя дорога?
— Дорога долгая, всем полна.
— И то верно: нет крепкой руки, нет и мира на земле.
И, сверля Юрия взглядом, скромно добавил:
— Прошу в мой шатер отдохнуть. Почетному гостю кругом почет.
Юрий спрыгнул с коня, бросил поводья Зоре. Размашистым шагом направился между горящих по всему берегу костров к лазоревому Романову шатру, разбитому на самой вершине холма.
Не обманул Роман, и вправду не поскупился: Юрия встречал со всею щедростью. На длинном столе, только что сбитом из смолистых сосновых кругляшей и досок и накрытом богатой серебристой бархатной скатертью, стояли блюда с жареными гусями и лебедями, со стерлядью и соблазнительно подрумяненными кусками мяса, между блюд высились братины, а по углам шатра стояли бочки с медом и винами.
Пир предстоял на славу, и, зная сдержанность Романа, Юрий сразу дал себе строгий зарок: лишнего не пить, а еще меньше говорить. Больше слушать и налегать на еду. Благо, поесть было чего и у молодого князя уже заурчало в животе.
Роман широким жестом пригласил Юрия занять место на застланной ковровым покрывалом лавке, сам сел рядом и, разлив по чарам вино, сразу приступил к делу.
— Капля по капле — дождь, дождь реки поит, реками море стоит, — сказал он, кривя тонкогубый рот. — Ехал сюда, знал зачем. Будем думать думу вдвоем.
Трудно Юрию пересилить неприязнь к Роману, трудно, улыбаясь, сговариваться против дядьки своего. Совсем не к месту вспомнил он вдруг, как выручил его Всеволод в битве под Юрьевом, когда насели на него, совсем еще юного, освирепевшие Мстиславовы копейщики.
Роман говорил тихо, тонкими костлявыми пальцами перебирал кудрявую бородку, глубокими складками морщил лоб. А глаза, остановившиеся, как у гадюки, смотрели на Юрия в упор, и чувствовал Юрий, что цепенеет в нем все под Романовым неподвижным взглядом и губы сами повторяют за Романом сказанное:
— С нами Святослав. За Святославом Гора. За Горой — земля русская. Вздохнем всем миром — ветер подымется. Доколе же нам оглядываться на Всеволода?
Хоть и дал себе Юрий зарок, но перед Романовыми сладкими винами не устоял; хмелея, хвастался победами своими над булгарами.
— Смелость силе воевода, — хрипло шептал ему на ухо Роман. — А не выдюжишь, охнешь козлячьим сердцем, тут тебе и конец. Не то что княжества — худого удела не выпросишь. Да и пристало ли просить сыну Андрея Боголюбского?!
И еще говорил Роман:
— Свое даришь. Чужого не берешь. Никто тебя не осудит…
Недобрым сном забылся в Романовом шатре Юрий. Радости не было, не было и печали — была пустота. О многом говорили в тот вечер, а чего-то главного ни он, ни Роман не сказали. Чего?..
«Чего не сказали-то?» — думал Юрий по дороге во Владимир, прикасаясь дрожащей ладонью к рагоряченному лбу. Но мысли не шли дальше вопроса, они ворочались медленно, как колеса застрявшей в суглинке телеги.
И росный зеленый рассвет уж не радовал его, как накануне.
3С недавних пор на княжеский двор во Владимире все больше и больше стекалось люда со всей Руси. Послы из Новгорода, Чернигова, Смоленска, Галича, Новгорода-Северского сидели в сенях, с любопытством оглядывая друг друга, — все со своими делами, со своими заботами. Ждали князя. Советовались. Просили помощи. Нашептывали друг на друга.
В далеком Галиче своевольные бояре во главе с Константином Серославичем жаловались на Ярослава Осмомысла. Привел-де он к себе на княжеский двор худородную любовницу Настасью, а законную жену, сестру Всеволодову Ольгу, с сыном Владимиром изгнал в Польшу. А у Настасьи народился сын Олег. И, совсем помутившись разумом, грозится Ярослав посадить после себя на галицкий стол не законного сына, а прижитого от любовницы. Гоже ли это? Стерпит ли суздальский князь, чтобы сестра его кончала дни свои в позоре и изгнании?..
Но у Всеволода свои заботы. Нынче Галичем заниматься рановато. Под боком зреет смута. Никак не свыкнутся строптивые князья с его победой, мутит воду в Волхове вольнолюбивый Новгород, зреет заговор в Рязани, Святослав тянет руки к северным землям, а с востока, с Волги, угрожают Владимирскому княжеству булгары.
Оставив нового своего меченошу Кузьму Ратьшича (Карпуша занемог, простудившись на охоте) забавлять послов, прихватив с собой вертлявого тиуна полубулгарина-полурусского Гюрю и молодого боярина Михаила Борисовича, ускакал Всеволод за Клязьму, в тихую пойму, где на отлогом берегу под столетними дубами давно уже облюбовал себе укромное местечко и повелел срубить избу. В избе этой, просторной и прохладной, не было ни ковров, ни серебряных светильников, ни окон с разноцветными стеклами — ветер свободно гулял в четырех стенах, и только в углу под лампадой высвечивалось темное лицо Христа, писанное на кипарисовой доске. Стол и лавки в избе были добротные, из толстых досок и на толстых ножках, да еще в погребе, вырытом чуть в стороне, хранилось старое вино.
Никто не смел беспокоить Всеволода в его убежище. Даже Мария ни разу не бывала здесь, и только любимец его, племянник Юрий, мог нарушить суровое одиночество.
Уже несколько дней Всеволода мучили сомнения. Не то чтобы вещие сны. Не то чтобы доносы доводчиков. Просто плохо спалось ему по ночам, под половицами скреблись мыши, а мысли текли свободно в не нарушаемой голосами, не тронутой льстивыми и обманчивыми речами тиши. То, что забывалось в темноте и вдруг испугало его своей прозрачной ясностью и простотой.
Они договорились. Князь Юрий ждал его. Уже издалека, из низинки, Всеволод увидел привязанного к дубу коня под высоким кожаным седлом.
Синее корзно Юрия было брошено на лавку. Вытянув ноги в запыленных сапогах, положив перед собой на столешницу длинные руки в перстнях на узких длинных пальцах, молодой князь сидел тихо, смотря на Всеволода глубоко утопленными в тени глазниц беспокойными глазами. Худое, напряженное лицо его было бледным, узкий рот в обрамлении редкой бороды страдальчески искривлен.
Всеволод стремительно вошел, обнял приподнявшегося Юрия за плечи, сел напротив — колени в колени, — долго, внимательно разглядывал его: молчалив, скорбен. Или озлоблен?
Всеволод был терпелив. Рука потянулась к бородке. Пальцы дрогнули, сжались в кулак, подперли щеку.
— Донесли мне, — хрипло сказал он, слушая собственный голос издалека. — Донесли мне, будто старый Святослав снова шлет гонцов к Роману.
Юрий безмолвствовал. Всеволод продолжал раздраженно:
— Задуманному не бывать. Совсем обезумел Роман. Послов моих держит по три дня на подворье. А велика ли ему от того польза?
— Роман — сам себе голова, — неохотно отозвался Юрий.
Всеволод вскинул бровь, провел пальцами по усам.
— За глупой головою и ногам плохо, — глухо сказал он. — Неужто Глебова участь не прибавила ему ума?
— В чужую дудку не наиграешься.
— Да дудка чья?
— Твоя, ведомо.
Всеволод откинулся на лавке, усмехнулся, прикрыл веками глаза. Сидел молча, не шевелясь. Не шевелился и Юрий, судорожно думал: «Осторожен, осторожен и коварен». И вдруг поймал себя на страшном: «Неужто обо всем пронюхал? Зачем звал? Почто разговор завел о Романе?»
Но, когда Всеволод открыл глаза, страх прошел: такая в них была ясность, такая чистота, что Юрий и сам невольно просветлел лицом.
Всеволод заговорил о наболевшем: о кознях князей, о недоверии бояр, о племяннице Пребране, томящейся в Новгороде под присмотром своевольного посадника и Святославовых соглядатаев.
«Зачем ему это?» — подумал Юрий. И снова всколыхнулась в нем невысказанная обида: захватил отцовский стол, а сыну жалуется на тех, кто на стороне извечного закона. Нет, Всеволоду он не советчик.