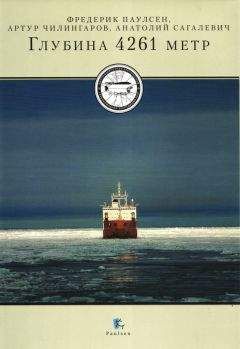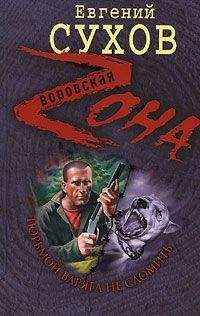Александр Башкуев - Призвание варяга (von Benckendorff)
А затем и этот бред кончился. Пришла боль.
Она была страшной, огненно-красной, пульсирующей… Она расходилась концентрическими кругами по всему телу из ран на голове и бедре. Боль была столь страшна, что я застонал и очнулся.
Я лежал в просторной и свежей постели на мягкой кровати, а откуда-то из темноты ко мне пробивался ласковый и нежный свет. Боли почти не было, но рот пересох настолько, что губы потрескались и мне дико хотелось пить.
Я попытался встать, или хотя бы поднять голову, чтобы позвать людей, но тут пламя далекой свечи заколебалось, на пол упала какая-то книжка, и я почуял старый, домашний запах и матушкины прохладные руки опустились на мой горячечный лоб, а сладкие губы покрыли меня поцелуями и прошептали мне на ухо:
— Не шевелись, не надо. Я пойму, что ты хочешь… Попить? Тебе нельзя много, вот тебе — губка… Все хорошо… Мы вместе и — все будет теперь хорошо…" — и я опять упал в черноту.
Я очнулся посреди дня. Мой Петер насвистывал латышскую песенку и поскрипывал надфилем. Я спросил его, что он делает, но звука не получилось, а лишь какой-то сдавленный хрип. Петер на миг кончил скрипеть, а потом подошел, крадучись, к моей постели, а затем бросился вон с криком:
— Госпожа баронесса, госпожа баронесса, Хозяин очнулся! Слышите все Хозяин очнулся!
Тут же комната вся наполнилась. Откуда-то появилась моя милая матушка. Она протянула мне руки, пахнущие матушкиным молоком. Она поцеловала меня так, как целовала меня только милая матушка. Она сказала голосом моей милой матушки:
— Господи, Горе ты мое, ну что мне с тобой делать-то?! — и горько заплакала.
Она плакала и прижимала руку мою к своему животу, а я — изумлялся, зачем она моею рукой баюкает свой живот?!
Тут дядя Шимон, посверкивая стеклами очков на шелковой ленте, засуетился надо мной, светя мне в глаза разными зеркальцами, в то время как его сыновья, — Саша и Петр стали слушать меня трубками и трогать мои повязки.
Наконец, старший Боткин, узнав мнение сыновей, степенно откашлялся, протер стекла своих очков и решительно сказал бледной от нервов и бессонницы… "матушке":
— Сепсиса больше нет. Дыхание, температура, сердце в норме. Коль подкормить его, муж Ваш, смею уверить, сударыня, — выживет.
"Матушка" молча встала, стиснула великого доктора, достала откуда-то мужской перстень с брильянтом чистой воды — с голубиное яйцо и надела его на руку дяди моего со словами:
— Это не от меня, но — Сашиной матери! Она не успела дать мне для Вас деньгами, так что это — жалкий аванс. Остальное — потом. Не смейте глупить, — Вы — Чудотворец! — потом решительно топнула:
— Чашку куриного бульону и — все вон отсюда! Теперь-то уж я сама… — и вообразите себе, — ее все послушались!
Я смотрел на жену и не мог поверить глазам — она стала так необычайно похожа на матушку… Даже интонации в голосе стали немного сварливыми, да язвительными — точь-в-точь "Рижская Ведьма"!
Но это — с другими. Со мной же она была прежней Маргит. А может быть — моей матушкой?! Я лишь в те дни обратил внимание, что Маргит даже выговаривает слова так, как это делает ее тетка — "урожденная баронесса фон Шеллинг"!
Может быть это — Мистика, а может быть — мы и впрямь (как Эдип!), на самом-то деле выбираем в жены "собственных матерей"?
Как бы там ни было — присутствие Маргит мне шло на пользу и через неделю я уже сам "принял пищу", а вскоре смог (извините за прямоту) "сходить до ветру" не в специальную утку, но в самый обычный ночной горшок.
А потом моя милая Маргит и здоровяк Петер вывели меня на крыльцо моего Гжельского фарфорового заводика погулять. Я вышел и не поверил глазам, кругом — белым-бело. Время "Матфеева" Ангела. Весна — Время Польши, Лето Франции, Осень — Германии. Зимой же Господь Благосклонен нам — русским. А меня ранило в августе…
Маргит по сей день хранит в заветном ларце выданную ей "похоронку": "В связи с гибелью в Бородинском сражении.
Сегодня, когда я читаю лекции в Академии Генштаба, я признаю, что все, что было со мной — дурь молодеческая. Не дело генералу ходить в штыковую, не дело "особистам" вставать в цепь охранения. Не полезь я в ту кашу, дольше прожила б моя матушка. И мои ученики обещают, что не повторят сих глупостей.
Впрочем, однажды я сглупил еще больше и чуть не погиб среди мирной жизни. Было это в 1824 году в день наводнения.
Я, как Начальник Охраны Его Величества, был в тот день в Зимнем и наблюдал за разгулом стихий из теплого и сухого кабинета через толстое, большое стекло. Шел проливной дождь, ветер был такой, что деревья "рвало" просто с корнем, а по Неве из залива шла "нагонная волна" редкостной высоты.
К счастью, наша Дворцовая сторона стоит на высоком берегу и самому Зимнему ничто не грозило, а со стороны Васильевского приходили известия самые утешительные. Спасательные команды заканчивали работы и оставалось ждать только "схода вод.
Государь со своим двором, радостный от такого исхода дел, вышел на лестницу Зимнего следить за окончанием "спасработ" и мне, согласно инструкции, надо было сопроводить его.
Я уж выходил из своего кабинета, когда мне почудился Крик. Я прислушался. В кабинете было покойно и тихо, да и какие крики могут проникнуть за толстенные стекла Зимнего? Я уж решил, что почудилось, но какая-то сила заставила меня погасить свечи, еще раз подойти к окну и прислушаться.
За окном крутило непроницаемо серую пелену, ливень хлестал такой, что по стеклу несло бесконечный ручей и, разумеется, за всем этим услышать хоть что-то было просто немыслимо. Наверно, я должен был убедить себя, что мне почудилось, но какая-то сила заставила меня распахнуть окно настежь…
Страшный порыв ветра мигом сдунул бумаги с моего стола, свирепый ливень резанул мне лицо, а уши мои наполнились ревом…
Сегодня я знаю, что тот — первый крик мне почудился. Но в ту минуту в пелене дождя на далеком Васильевском берегу…
Я близорук и очки мои сразу залились водой, так что я по сей день не уверен, — что я видел на самом-то деле, но чувство, что там — кто-то живой обратилось в уверенность.
Я что есть ног побежал к Государю и сказал ему, что донесения об удачном окончании работ ошибочны, — я лично кого-то видел на том берегу и слышал крики о помощи.
Государь был весьма недоволен известием. Кочубей, отвечавший за спасательные работы, уверял его, что мне все привиделось, — отсюда невозможно разглядеть, что творится на том берегу, а Нессельрод со смехом сказал:
— Как бы там ни было, — мы-то что можем сделать? У нас из всех лодок здесь только личный катер Его Величества. Не оставите же вы Государя в такой день и — без лодки?!
Тут я не выдержал, — кровь бросилась мне в голову от сей жирной ухмылки и я крикнул:
— Сегодня вам жаль этой лодки, а там — тонет Империя! Не знаю, что происходит, но там сейчас гибнут сотни людей! А с ними — их Вера в Нас и нашу (такую-то — драную) Монархию!
Ваше Величество, вряд ли сегодня возникнут угрозы для Вас, — дозвольте мне взять Ваш личный катер!
Государь необычайно обрадовался, — всю жизнь он хотел выставить меня в дураках, а тут представился такой случай. Он милостиво махнул мне рукой и я тут же побежал к лодке, на ходу срывая с себя мой генеральский китель. С каждым шагом, с каждой минутой чувство ужаса и отчаяния крепло в моей душе, превращаясь в какую-то ярость и ненависть.
Последние пару саженей мне пришлось плыть до катера, матросы с изумлением смотрели на меня, а старший мичман, командовавший судном, встретил меня со ртом, просто разинутым от изумления. Я, не вдаваясь в подробности, крикнул ему:
— На тот берег! Масонам доверься, — они сперва всех загубят, а потом и нас за собой! Там — живые! Весла на воду! Живо!
Мы понеслись поперек бурлящей, смертоносной реки. На крыше первого же дома мы увидали трех-четырех несчастных, лежавших уже без движения, ледяная вода и пронизывающий ветер делали свое дело. Самое страшное состояло в том, что все они привязались к крыше домика и теперь эти веревки тянули их вниз в кипящую воду. А отвязаться они уже не могли чисто физически.
Мы не рисковали матросами, — сильнейшее течение и ветер заставляло нас дорожить каждой рукою на веслах. Поэтому мне вместе с сим старшим мичманом и двумя просто мичманами пришлось прыгать с борта в воду и перерезать веревки личным оружием. Когда катер заполнился так, что борта "хлебнули воды", мы вернулись назад и выгрузили несчастных прямо у Зимнего.
Лишь после этого Кочубей изволил осведомиться у его сраных "спасателей", — кого же они-то спасали? И лишь когда сам Государь услышал, что до сей поры спасали лишь "высших", ему стало так дурно, что он сразу ушел к себе. Там он лег в мягкую постель и обложился десятком грелок, напившись чаю с малиной. Господи, — ведь он так переживал за простой люд!
Лишь после этого спасательные бригады стали возвращаться на несчастный Васильевский. А мы все это время плавали, вынимая из воды все новых и новых. Было холодно и я застудил водой рану, вот мне и стало сводить мышцы судорогой. Наверно, надо было как-то подумать об этом, но я по чистой глупости не обратил внимания и однажды, после того как подал из воды очередного замерзшего, силы оставили. Рука моя соскользнула с борта и я "булькнул", как топор в проруби. По счастью, сие заметили простые матросы, кои тут же, побросав весла, прыгнули за мной в реку и выудили меня их воды.