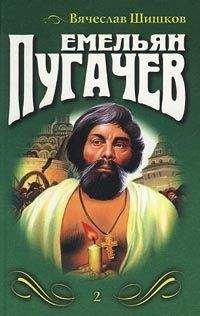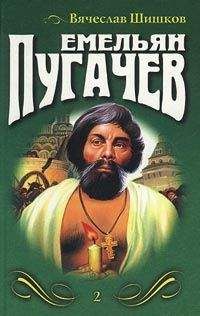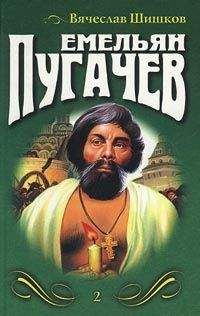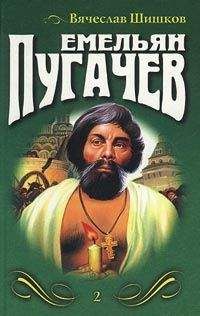Вячеслав Шишков - Емельян Пугачев, т.2
Подобных донесений своим господам от их служащих и крепостных сохранилось довольно много.
Глава III
Долгополов действует. В царских чертогах. Смятение среди дворян
1
Улучив время, когда Пугачев прогуливался вдоль берега попутной речонки, ржевский купец Долгополов подошел, поклонился, молвил:
— Царь-батюшка, ваше величество. Приспела мне пора-времечко в Петербург возвращаться, наследнику престола, а вашему сынку богоданному отчет отдать. Сделайте Божескую милость, отпустите…
— Нет, Остафий Трифоныч, — возразил Пугачев, прищуриваясь с недоверием на прохиндея. — Ты еще мне сгодишься.
Пугачев не без основания опасался отпускать от себя такого выжигу: «Учнет там невесть чего плести». А тут, в обозе, он вовсе безопасен.
Долгополов, согнав с лица подобострастную улыбку, прикрякнул, сказал:
— Я бы вам, царь-государь, из Нижнего много пороху прислал. У меня там девять бочонков зелья-то оставлено у купца Терентьева в укрытии, у дружка. В подвалах его каменных. А чтобы незнатно было, что это порох, я сверху-то толченым сахаром засыпал. Под видом сахара и подсунул купцу-то.
— Коли не врешь, так правда…
— Как это можно, ваше величество, чтоб государю облыжно говорить!.. — воскликнул Долгополов, всплеснув руками и отступив на шаг. — В молодости не вирал, а уж под старость-то…
— Ладно, пущу, — подумав, ответил Пугачев, — только не прогневайся: своего человека с тобой отправлю…
— Да хоть двух! Еще мне лучше, сподручней ехать будет. Твоему доверенному и тот порох передам с рук на руки.
Дня через два, тихим летним вечером, Долгополов выехал из стана Пугачева. Провожатый, илецкий казак Осколкин, проехал с ним не больше полсотни верст, затем в попутном селе напился и отстал.
Долгополов ехал теперь один, с возницей, лошадей получал по выданной пугачевской Военной коллегией подорожной. Настроение его было приподнятое, радостное. Он словно из тюрьмы сбежал, и вот перед ним снова воля. Да будь им неладно, этим головорезам, мало ли он, Долгополов, страху с ними претерпел; сегодня стычка, завтра стычка, еще слава Богу, что в плен не угодил. Они, разбойники, чуть что — так и по коням, а он на коне, как баран на корове. Нет, довольно, с него хватит…
Хоть он и мало покорыстовался от Пугачева — самозванец, чтоб его лихоманка затрясла, прижимист, лют, согруби ему, он живо — камень на шею да в воду, но лишь бы Долгополову во всем благополучии до Питера добраться — у него на уме дельце затеяно великое… то есть такое дельце, что Долгополов, ежели праведный Господь благословит, генералом будет и по колено в золоте учнет ходить… «Подай, подай, Господи! А я уж, грешный раб твой, каменную часовню всеблагому имени твоему сгрохаю во Ржеве, в триста пудов колокол повешу! Трубы обо мне трубить будут… Сама матушка Екатерина деревеньку с мужиками отпишет мне, к ручке своей допустит… Знай, воевода Таракан, знай, треклятый обидчик Твердозадов, знай, вся Россиюшка, кто есть Остафий Долгополов!»
Невзирая на тревожное время, проведенное Долгополовым среди пугачевцев, прожорливый купец порядочно-таки отъелся, подобрел, налился на степном воздухе здоровьем, из заморыша в порядочных годках превратился он в крепкого и совсем будто бы не старого человека. Но плутовские глаза его те же, и козлиная бороденка та же.
Пугачевские разъезды на дороге, мужицкие пикеты при околицах восставших деревень, осматривая документы за государственной печатью, относились к нему, как к царскому посланцу, предупредительно. Крестьяне наперебой тащили его в свои избы, топили баню, кормили его, делясь последним, расспрашивали про «батюшку» — все ли здоров наш свет, да много ли скопил возле себя мужиковской силушки, да куда намерен путь держать?
И день, и два, и три едет Остафий Долгополов во всем благополучии, сытый, веселый, любуется природой: лесами, полями, рощами, речонками, а вот на горе вдали белеет благолепного вида Божий храм, глядят на Долгополова обширные барские хоромы. И только он шапку сдернул, чтоб перекреститься на святую церковь, — шасть к нему из-за кустов разъезд.
— Кажи документы, проезжающий! — бросил с коня усатый малый в лапоточках, за поясом пистолет, у бедра сабля, сам слегка подвыпивши.
— С нашим превеликим удовольствием, — проговорил купец и, вынув из шапки подорожную, подал ее усачу в лаптях.
Тот повертел ее пред глазами, поколупал сургучную печать, спросил:
— Куда правишься?
— А еду я к самому наследнику престола Павлу Петровичу в столичный град Санкт-Петербург. Да ты, служба, прочти в бумаге-то…
— Кто послал тебя?
— А послал меня сам государь Петр Федорыч…
— Ребята, хватай его! — неожиданно крикнул усатый малый.
Долгополов не больно-то испугался этого крика, только весь злобой вспыхнул.
— Как смеешь, пьяная твоя рожа, на меня, государева слугу, орать?! — в свою очередь закричал он на усача в лаптях. — Я, мотри, в больших чинах у государя-то хожу. Мотри, живо на осине закачаешься!..
Усач захохотал и крикнул:
— Это у какого такого государя? Какой еще государь нашелся?
— Петр Федорыч! Великий император!..
— Ванька! Сигай к нему в тарантас да заворачивай к селу, — приказал усач другому парню.
Долгополов смутился, не на шутку перетрусил. Да уж полно, не от казенного ли какого отряда дураки это посланы — подозрительных людей хватать?
А усач в лаптях, держась за пистолет, сказал Долгополову:
— Чегой-то шибко много развелось этих самых Петров Федорычей. А истинный царь-батюшка, взаправдашний Петр Федорыч государь, завсегда с нами ходит. Видишь барский дом? — сердито ткнул он нагайкой по направлению к селу. — Вот тамотка он, отец наш, жительство имеет. Он тебя, супротивника, спросит, кто ты такой есть. Поехали!
Долгополов кричал и ругался, выходил из себя, потрясал кулаками. Его горбоносые лошаденки, нахохлившись, неохотно свернули с большака на проселок, усач в лаптях припугнул их нагайкой да заодно вытянул ею и купца.
Остафий Трифоныч вскоре был втащен за шиворот по каменным ступеням барского дома с белыми колоннами к самому крыльцу. Из распахнутых окон доносился шумный говор, бряканье посуды, пьяные выкрики, раскатистый хохот, запьянцовская разухабистая песня и грузный топот плясунов. Видимо, шла там гульба. Долгополова крепко держали за руки. Он все еще продолжал кричать, буйно сопротивлялся.
Вокруг дома подремывало несколько заседланных лошадей, под кустами в разных позах валялись спящие крестьяне, в изголовьях одного из них сидел мальчишка лет пяти, он теребил храпевшего человека за бороду и сквозь горькие слезы тянул: «Да тят-а-а, вста-ва-ай, мамынька кличет». Угасший костер, палки, вилы, два опорожненных штофа брошены в истоптанную траву, два старика сидят, согнувшись, на пеньках, курят трубки, морщинистые лица их скорбны. Грязный, весь в репьях, вонючий козел, привстав на дыбки, тянется губами к свежим листкам молодой липы.
Вдруг с треском распахнулась дверь, и на крыльцо вылез из барского дома присадистый мужик в домотканом зипунишке, за опояской — топор, в руках — жирная селедка, головка зеленого лука. Пошевеливая скулами и коричневой всклокоченной бородой, он неспешно прожевывал пищу. Нахмурив брови и окинув шумевшего Долгополова недружелюбным взором опухших глаз, он сипло спросил:
— Чего, так твою, орешь?
— Вот, пымали птичку-невеличку. Сказывает, от какого-то Петра Федорыча едет, от государя, ха-ха-ха!
— Поди, доложь батюшке, — пропойным голосом сказал мужик; оторвав зубами кусок селедки, он поправил топор за опояской и, пошатываясь, стал спускаться в палисадник к зеленым кустикам.
И вот, окруженный пьяными гуляками, появился во всей славе «сам царь-государь Петр Федорыч Третий».
Долгополов разинул рот, вытаращил изумленные очи, попятился. Пред ним стоял, подбоченившись, толстобрюхий детина, бывший поставщик «высочайшего двора» в Петербурге, разоренный Барышниковым мясник Хряпов. С тех пор, как Долгополов встретился с ним в питерском трактире, в день похорон Петра III, прошло двенадцать лет, однако Долгополов сразу же узнал когда-то знаменитого по Питеру мясоторговца. Боже мой, Боже мой, что же это деется на белом свете!
Долгополов не был осведомлен про то, что мясник Хряпов, вышедший на оброк крепостной крестьянин, еще в молодых годах перебрался в столицу и быстро там разбогател, затем, три года тому, уже разорившийся, появился в Москве на чумном бунте, в пьяном виде ввязался в драку с подавлявшим мятеж воинским отрядом, вместе с прочими попал в тюрьму, где и просидел около двух лет. Не мог знать Долгополов и того, что мясник Хряпов, оплакивая свою горькую судьбу, возненавидел сильных мира сего: вельмож, помещиков, богатых купцов и всякое начальство, что, прослышав о мятежной заварухе среди казаков на вольном Яике, он прошлой зимой пробирался к себе на родину, в деревню. Он полагал набрать там ватагу храбрых и двинуться на помощь к «батюшке». Он понимал, что на Яике под Оренбургом великие дела вершит не царь, а самозванец, но Хряпова это нимало не смущало, царь ли, не царь ли, только бы разумный да отчаянный человек был «батюшка». Он так и говорил тогда: «Пойду служить умному разбойничку».