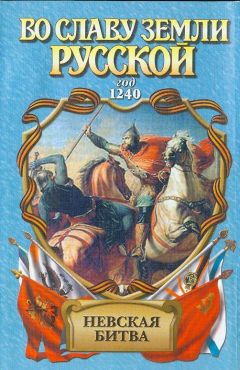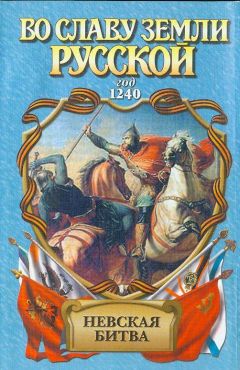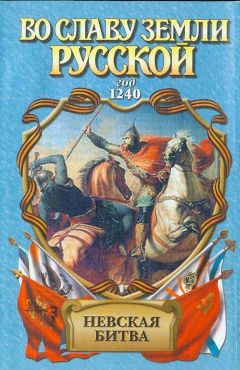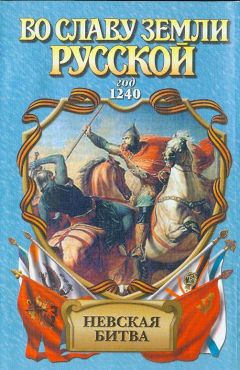Норман Мейлер - Вечера в древности
в сердце, покуда жизнь моя не становилась не просто призрачной, но все более и более похожей на тончайшую нить. Все во мне, что не пребывало в ней, становилось готовым к выходу из моего тела и вхождению в мой Ка. В такие моменты я знал, что мне стоит лишь оборвать нить между своим телом и моим Ка, эту серебряную нить — так я видел ее с закрытыми глазами, — и я умру. Мое сердце разорвалось бы в момент извержения. Не могу сказать, — как много ночей я парил на этом краю. И все же я всегда возвращался. Мне слишком нравилось это наслаждение, чтобы отказаться от него. И я никогда не рвал серебряную нить, соединявшую мое тело с семью душами и духами, нет, до той ночи, когда она предала меня.
Могу сказать, что этот способ любви — притом что он самый утонченный и сглаживающий многие сладкие повороты — мог представляться ей лишенным силы, отвечавшей ее вкусам. Ибо, будьте уверены, это медленное проникновение не только нашей плоти, но и наших мыслей и духов в плоть и мысли другого в большой степени зависело от легкости наших движений во время тех чудес равновесия, что я совершал на самом краю».
«Это самый божественный способ любви», — сказала Хатфертити, бросив на Птахнемхотепа взгляд, говоривший, сколь хорошо узнала она именно такое удовольствие этой ночью. Однако Мененхетет, прерванный этим вмешательством, продолжил свой рассказ:
«В одну из таких ночей, когда все во мне было предельно разделено — мой Ка исследовал врата самого Дуата, в то время как головка моего члена пребывала, очевидно, глубоко в ее лоне — так что, должно быть, она наконец увидела ту пещеру, где были спрятаны мои сокровища, ибо внезапно отпрянула, и мое падение стало неизбежным. Мне хватило времени лишь для того, чтобы попрощаться со всем, что было мной — нитью, Ка и остальными моими душами: я знал, что мне уже никогда не удастся такое бурное извержение, и я отошел. Ни один жрец никогда не видел Богов в таком сиянии, как я. Мои стремления и алчность вылетели из меня, подобно радуге. И снова я ощутил великую боль в верхней части спины, на этот раз лишь единожды, а не семь ударов, и услыхал ее последний крик, хотя он исходил от меня. В то мгновение я почувствовал не нож, но как мое сердце разрывается в руках той девки. Когда мы отдыхали, я подумал о ребенке, которого только что зачал в ней, и лишь после, проснувшись и встав, чтобы помочиться, я увидел себя на земле.
Глаза, которыми я увидел свое мертвое тело, принадлежали, разумеется, моему Ка, и он, бедняга, смог вернуться во чрево Небуджат лишь на следующую ночь, когда она почти совершенно обезумела от любовных трудов в объятиях одного из своих постоянных посетителей, могучего грабителя из деревеньки в Западных Фивах. Однако в последовавшие месяцы, когда я рос в ее животе, мой Ка не мог пребывать в покое, столь важном для времени, которое мы проводим во чреве. Напротив, мой Ка и прочее, что было мной, появилось на свет поврежденным и избитым из-за грубости незнакомцев, колотивших по моей голове все то время, что я пребывал во чреве своей новой матери. И, думаю, многие из воспоминаний о моей первой и второй жизнях были настолько выбиты из меня, что для их восстановления мне понадобилась почти вся моя четвертая жизнь».
ЧЕТЫРЕ
«Меня воспитала Небуджат, и снова я вырос в гареме, хотя здесь не было Фараона. Туда мог зайти любой мужчина в Фивах. Да и мать я выбрал неразумно. Заполучив мои сокровища из Восточной пустыни, она сразу же оставила веселый дом и приобрела себе прекрасный особняк — желания у нее были царские, а страсть к азартным играм — как у колесничего, так что очень скоро деньги кончились, и она снова стала продажной девкой. Мне еще не исполнилось и восемнадцати лет, а она уже умерла от лихорадки. Моча ее превратилась в черную жидкость. Я был тогда здоровым сильным парнем, в сердце которого таилось много нераскрытого. Добрых чувств во мне было немного, однако я знал, как разговаривать с людьми: я мог, как гласит наша пословица, „Продать перо Фараону и назначить Ему цену золотом". Я отлично понимал женщин, что и следовало ожидать от того, кто жил в веселом доме, а мужчин оценивал по их умению или неумению вести себя. Ведь именно неотесанность колотилась о мою еще не родившуюся голову.
Скажем так: я знал, как найти свою дорогу. В то время я зарабатывал на жизнь там же, где и моя мать — я содержал веселый дом и преуспел. Более чем когда-либо наш город был городом жрецов, а значит, согласно равновесию Маат, в наших веселых домах царил разгул, а мой дом, признаюсь, был лучшим. Отчего бы и нет, раз я две жизни готовился к такому поприщу.
И все равно, хоть я и варился в жизни Фив, я знал о той сумятице, что царила при Дворе в Мемфисе. Каждые несколько лет появлялся новый Фараон, да к тому же тогда случился не один, но два голода. Порой даже я почти голодал. Однако, по счастью я поверил своим снам, а они сказали мне, чтобы я отправлялся на север, в Дельту, где особенно буйно рос папирус. Там мне следовало открыть мастерскую по его обработке и продавать его в Сирию и другие земли. Поступи я так, вот тогда, пожалуй, сказал мне тот сон, я смогу вернуть сокровища, которые растратила моя мать.
Я все еще был просто толстым парнем веселого нрава с хорошо подвешенным языком, но во время поездки в Мемфис мне удалось переговорить с Главным Писцом Визиря Фараона Сетнахта (этот Главный Писец, бывая в Фивах, часто захаживал в мой веселый дом, поскольку любил не только женщин, но и ту еду, что я ему подавал, и бани, которые я содержал). Теперь мне удалось убедить его, что мои планы в отношении папируса стоит обдумать. Чтобы сократить мой путь, он дал мне сопроводительное письмо (с указанием особого налога, который полагалось выплачивать непосредственно ему), и тогда я смог открыть Царскую мастерскую. Большую часть своей третьей жизни я провел в Саисе и к ее окончанию накопил себе состояние. Каким спросом пользовался мой папирус по всей Сирии!
На востоке горели желанием сменить свои тяжелые глиняные таблички, чтобы посылать больше сообщений на одном осле. Раньше на спину животного можно было нагрузить пятьдесят глиняных табличек, половина из которых прибывала на место разбитыми, теперь же появилась возможность отправить пятьсот свитков папируса, которые доставлялись в том же самом виде, если, конечно, ничего не случалось с самим караваном. Эти люди в Сирии, Ливане и даже хетты стали так широко пользоваться нашим папирусом, что очень скоро смогли улучшить даже свои колесницы. Ибо, как только им удалось точно повторить наши рисунки колесниц, они научились их строить. Притом что никакой папирус не мог научить их управлению лошадьми с помощью вожжей, обмотанных вокруг пояса, они узнали и это, так что, можно сказать, что в своей третьей жизни я оказался одним из тех египтян, которые способствовали приближению упадка Египта. Слишком много тайн открылось сирийцам через этот дар — папирус. Они принялись переписывать наши священные письмена и замарали их. Теперь уже нельзя было определить на глаз — плавный ли это почерк наших древних Уединенных, разборчивая ли запись счетовода или таинственные завитушки, которые мы во Внутреннем Храме добавляли к нашим рисункам. В прежние дни один и тот же знак мог иметь не только одно значение, и это обеспечивало сохранность записи. Теперь же из-за сирийцев каждый мог прочесть написанное другим, и даже простой писец глядел без благоговения на прекраснейшие письмена. Ему не надо было заботиться о том, что слова заключают в себе более одного значения. А потому и мудрые, и глупые, и щедрые, и жадные — все были осведомлены одинаково хорошо. Так что у нас почти не осталось тайн от других земель. Понятно, что в те годы появилась новая поговорка: „Знающий наш почерк — знает нашего Ка"».
«Ты не находишь ничего хорошего, что можно было бы сказать о себе», — заметил мой Отец.
«В то время м&го что заслуживало уважения. Мне доводилось жить и в более достойные времена. Помню, что я нанял для работы в своей мастерской много ливийцев и сирийцев. Из-под их рук выходило больше папируса, чем делали мои соплеменники египтяне, привыкшие иметь почти столько же свободных, сколько и рабочих дней. Похоже, они не стремились трудиться в полную силу, но всегда были готовы отлынивать от работы. Конечно же, все было совсем не так, как при Усермаатра. Теперь ливийцы и сирийцы работали больше, делали больше папируса, а искусство его изготовления взяли в свои земли, и все же я был рад нанимать их, так как они за несколько лет сделали меня богатым человеком».
«Разумеется, папирус не был единственным источником твоего состояния?»
«Я также наживался на покупке и продаже участков в Городе мертвых. Так проявлялась мудрость моей второй жизни. Таким образом я составил второе состояние на основе первого. Это — единственная дорога к богатству. Нужно иметь небольшое состояние, чтобы оно послужило удобрением для большего богатства. Видите ли, перевод столицы в Мемфис, казавшийся в то время равносильным падению Фив, закончился обогащением старого города. Ибо теперь лишь Храм Амона мог удержат]» Две Земли вместе. Фараоны могли быть слабыми, но Храм окреп. Так же как росла и цена земли на каждой тенистой улице Города мертвых, а вместе с нею и во всех Фивах. Тот самый особняк, что за небольшую цену купила моя мать, стоил теперь больше, чем дворец восточного царя. Можно сказать, что люди с достатком вроде меня часто селились поблизости друг от друга в Дельте или в Фивах, а в Мемфисе проводили не более одной ночи на пути туда или обратно».