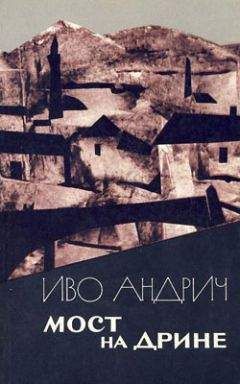Иво Андрич - Травницкая хроника. Мост на Дрине
— Господин предводитель, — не сдавался газда Павле, своим спокойствием пытаясь усмирить желчную раздраженность своего собеседника, — мы явились предложить вам свои услуги и заверить в том…
— Не надо мне ваших услуг и заверений. Вы себя в Сараеве достаточно показали.
— Господин предводитель, — не повышая тона, но все настойчивей продолжал газда Павле, — мы бы хотели с помощью закона оградить…
— Ага, теперь вы вспомнили закон! И на какие же законы осмеливаетесь вы ссылаться?
— На государственные, господин предводитель, обязательные для всех.
Предводитель насторожился и притих. Газда Павле поспешил воспользоваться этим затишьем.
— Господин предводитель, мы вправе задать вам вопрос, гарантируется ли нам и нашим семьям, жизни и имуществу безопасность, а если нет, то что мы должны делать?
На это предводитель развел руками, вывернув ладони наружу, пожал плечами, прикрыл глаза и стиснул свои бледные, тонкие, перекосившиеся губы. Столь хорошо знакомое ему слепо-глухо-немое выражение безучастности, типичное для предержащих властей в критический момент, показало Павле Ранковичу всю бесполезность дальнейших разговоров. Предводитель между тем, вернувшись в прежнее свое состояние, проговорил чуть мягче:
— Военные власти укажут каждому, что должно делать.
Тут и газда Павле развел руками, закрыл глаза, пожал плечами и проговорил затем осевшим и сдавленным голосом:
— Благодарю вас, господин предводитель!
Четверо членов общины чопорно и неумело поклонились и вышли с видом осужденных.
На базаре брожение и приглушенный заговорщический шепоток.
В лавке Али-ходжи собрались именитые местные турки: Наил-бег Туркович, Осман-ага Башанович, Сулейман-ага Мезилджич. Бледные и озабоченные, с тяжелой неподвижностью в лицах, выдающей страх людей, у которых есть что терять в надвигающихся переменах и ломке. Их тоже вызывали власти, предлагая возглавить отряды карателей. Встретившись как бы ненароком в лавке Али-ходжи, именитые граждане держат совет. Одни за то, чтоб идти в отряды, другие за то, чтоб не ходить, выждать. Возбужденный, с пылающим лицом и горящими, как в старину, глазами, Али-ходжа с негодованием отвергает всякую мысль о каком бы то ни было касательстве к карателям. С особой яростью обрушивается он на Наил-бега, стоящего за то, чтобы вместо цыгана почтенные и уважаемые люди возглавили вооруженные добровольческие отряды мусульман.
— Я, пока жив, таким делам не пособник. Будь у тебя ума побольше, и ты не был бы. Или не видишь, что гяуры нашими руками жар загребают, чтобы потом с нами рассчитаться легче было?
Оружием того же красноречия, которым он крушил, бывало, на мосту Осман-эфенди Караманлию, доказывал Али-ходжа, что турецкой душе ни там, ни тут хорошего ждать не приходится, а будут нос совать куда не надо, и вовсе не поздоровится.
— Давно нас никто не спрашивает ни о чем и с нами не считается. Шваб в Боснию вступил, а ни султан, ни кесарь и не подумали узнать: мол, есть ли, господа турецкие беги, на то ваше согласие? Потом поднялись Черногория с Сербией, вчерашняя райя, отняли половину Турецкой империи, опять на нас никто не посмотрел. Теперь кесарь на Сербию двинулся, нас ни о чем и тут не спрашивают, а хотят всучить ружьишки и портки и науськать, как гончих, на сербов, чтобы швабу даром не мараться самому. Да ты сам посуди, с чего бы это после стольких лет, когда нас не спрашивали о делах и поважнее, вдруг этакая зубодробительная милость? Говорю тебе, тут дальний расчет и лучше всего сколь возможно подальше от этого держаться. На границе уже прорвало, и бог его знает, куда все это пойдет. За Сербией еще кто-то стоит. Иначе быть не может. Это тебе в Незуках окошко гора заслоняет, и ты из-за нее ничего не видишь. Брось затею свою: и сам в каратели не лезь, и других не подбивай. Пока еще хоть что-то можно выжать, дои лучше испольщиков своих, какие там остались у тебя, — и ладно будет.
Турецкие беги молчат, оцепеневшие, сосредоточенные. Молчит и Наил-бег, явно оскорбленный, но не подающий виду, и, бледный как мертвец, вынашивает какое-то решение. Кроме Наил-бега, Али-ходжа всех поколебал и остудил. Попыхивая трубками, все безмолвно следили за непрерывной вереницей военных повозок и вьючных лошадей, проходивших по мосту. Потом один за другим стали вставать и прощаться. Последним уходил Наил-бег. В ответ на его хмурое приветствие Али-ходжа глянул испытующе ему в глаза и с тихой грустью произнес:
— Вижу, что ты надумал все-таки идти. Не терпится тебе шею сломать, боишься, как бы цыгане тебя не опередили. Запомни только, что издавна сказывали старики: напрасно на рожон лезть — доблесть невелика. Ты лучше в трудный час на деле себя покажи!
Площадь, отделявшая лавку Али-ходжи от моста, запружена повозками, конями, служивыми всех родов войск и призванными резервистами. От времени до времени сквозь толчею пробивались жандармы с группой арестованных сербов — горожан и крестьян. Воздух пропитан пылью. Все говорят громче и суетятся больше, чем надо, — несоразмерно тому, что говорят и делают. Потные красные лица, ругань на всех языках. В хмельном блуждании опаленных бессонницей глаз — тревожное предчувствие грядущего кровопролития.
Посреди площади перед мостом венгерские резервисты в новой униформе обтесывают наспех бревна. Споро стучат молотки, визжат пилы. По площади проносится тихий шепоток: «Виселицу будут ставить!» Тут же вертятся дети. С порога своей лавки Али-ходжа смотрит, как устанавливают первые две слеги и как затем усатый резервист лезет вверх и скрепляет их третьей, поперечной перекладиной. Народу набралось, словно халву бесплатно раздавали: живое кольцо окружило виселицу. Больше всего тут солдат вперемежку с турецкой сельской голытьбой и городскими цыганами. И вот уж расчищают проход, несут откуда-то стол и два стула для офицера и писаря. Каратели подводят двух крестьян, а вслед за ними одного городского. Крестьяне — арендаторы из пограничных сел Поздерчича и Каменицы, а горожанин — некий Вайо, личанин родом, предприниматель, с давних пор обосновавшийся в городе и тут женившийся. Все трое связаны, запылены и ошарашены. Армейский барабанщик стал отбивать громкую дробь. В гудящем вареве толпы она прокатывается отзвуками отдаленного грома. В кругу у виселиц наступает тишина. Офицер, поручик запаса из венгров, чеканным голосом оглашает по-немецки текст смертных приговоров, сержант вслед за ним переводит. Военно-полевым судом все трое приговариваются к смертной казни по обвинению, под присягой заверенному свидетелями, в подаче ночью световых сигналов на сербской границе. Казнь через повешение должна быть произведена публично на площади перед мостом. Крестьяне часто моргают, безмолвно, с видом крайней озадаченности. Предприниматель Вайо, стирая пот с лица, расслабшим голосом жалобно твердит, что он не виновен, и одичавшим взором высматривает, кому бы это сказать.
Оставалось привести приговор в исполнение, когда сквозь толпу к месту казни протиснулся приземистый рыжий солдат с раскоряченными ногами. Это был Густав, бывший обер-кельнер из заведения Лотики, а теперь содержатель кофейни в нижних торговых рядах. В новом мундире с капральскими нашивками, красный, с еще более безумным, чем обычно, взглядом налитых кровью глаз. Завязался спор. Сержант пытался унять его, но воинственно настроенный трактирщик не сдавался.
— Я здесь пятнадцать лет состою на осведомительной службе, я доверенное лицо высших военных кругов, — кричал он по-немецки пьяным голосом, — и мне еще в позапрошлом году в Вене обещали, что я собственноручно вздерну пару сербов, когда придет время. Вы не знаете, с кем имеете дело. Я заслужил это право. А вы тут…
По толпе прошелся гул и ропот. Сержант находился в замешательстве. Густав упорствовал, во что бы то ни стало требуя, чтобы двух осужденных ему дали повесить самому. Тогда поднялся поручик, сухощавый, хмурый человек господского обличья, глядевший на все с таким отчаянием, словно его тоже приговорили к смерти. Густав, хотя и пьяный, тотчас встал навытяжку, лишь тонкая щетина рыжих усов продолжала вздрагивать и дико бегали глаза. Подойдя к нему, офицер придвинулся вплотную к красной физиономии капрала, как бы намереваясь в нее плюнуть.
— Если ты не уберешься сию секунду прочь, я прикажу тебя связать и отвести в тюрьму. Завтра явишься на рапорт. Понял? А теперь убирайся! Марш!
Негромкие эти слова, произнесенные по-немецки с венгерским выговором, своей непререкаемой властностью заставили трактирщика сразу съежиться и раствориться в толпе, мыча невнятные слова извинения и беспрестанно отдавая честь.
Внимание толпы снова обратилось к осужденным. Крестьяне были в том же отупении. И лишь моргали и щурились от жары и знойного дыхания сгрудившейся массы тел, как бы только тем и обеспокоенные. А Вайо слабым и плаксивым голосом по-прежнему твердил, что он не виноват, что это конкурент его взял грех на душу, а сам он сроду не был в армии и не слыхал, что можно подавать сигналы светом. Он знал кое-что по-немецки и, задыхаясь, частил словами, в отчаянной попытке найти убедительный довод, который остановит наконец безудержный поток, со вчерашнего дня увлекавший его за собой, грозя ни за что ни про что унести из этого мира.