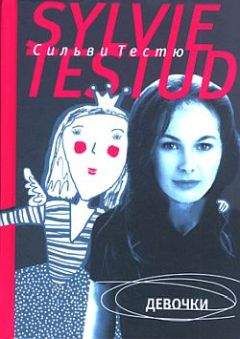Евгений Анташкевич - Харбин
Как её звали, Степан Фёдорович уже не помнил. Помнил только, что фамилия её была какая-то очень медицинская. Виноградова? Нет, не Виноградова, при чём тут Виноградова? Вишневская! Вот! Такая медицинская фамилия! Мазь-то – Вишневского!
Он подставил ей руку локтем на тумбочку, и повязка оказалась у неё перед глазами.
– Может, хоть размочишь, сестричка? – попросил он жалобным голосом.
Она посмотрела, молча сняла его руку с тумбочки и положила её кистью к себе на колени. В первый момент у Степана перехватило дыхание, его рука давно не лежала на женских коленях… Они глянули друг на друга, она серьёзно опустила глаза и начала своими тонкими пальчиками отрывать присохший бинт. Степан зажмурился – сейчас будет больно. Но боли не было.
Он открыл глаза и увидел, что сестричка очень осторожно, не тревожа раненого пальца, отрывает один слой бинта от другого, верхний от нижнего. Свободной рукой он, как мог украдкой, вытер пот и подумал, что он ей такого скажет, чтобы выразить благодарность. И именно в тот момент, когда она перерезала ножницами хвостики завязанного нового бинта, влетел штабной и во всё горло заорал:
– Товарищ капитан, вас в штаб!
«Шоб тебя твоим же голосом и разорвало! Труба иерихонская!» – подумал Степан и посмотрел на медсестру. Та застыла с зажмуренными глазами и поднятыми к ушам руками, в которых так и держала ножницы и обрезки бинта.
– Успокойтесь, сестричка, он у меня ещё…
После перевязки стало легче, и он отправился в штаб.
Начальник разведотдела сказал ему, не поднимая головы от карты:
– Ну что, капитан! Прибыл? Слышал про твои успехи, молодец! Садись на что придётся и слушай меня – эта война для тебя кончилась, со всеми своими улетаешь в Москву, а дальше тебе скажут…
Степан Фёдорович в последний раз посмотрел на лежащего на широкой реанимационной кровати под большим белым одеялом пожилого мужчину: «Вот так, Фёдорыч, и эта война для тебя кончилась…»
«Архив Управления НГБ СССР
по Хабаровскому краю 1992 г.
Контрольно-наблюдательное дело
Императорская японская военная миссия г. Харбин
Сотрудники. Капитан Коити Кэндзи
Том № 38
1946 г.
УНКВД СССР по Хабаровскому краю
Спецотряд № 16».
«Личные письма (с переводом) японского военнопленного, сотрудника Императорской японской военной миссии капитана Коити Кэндзи (предназначены Софье Андреевне Ларсен, 1922 г. р., уроженке г. Хабаровска. Установлена. Проживает во Франции)»
Письмо № 1
«Здравствуйте, Уважаемая Софья Андреевна!
Пишу Вам из Хабаровска. Мы здесь живём хорошо. Нас хорошо кормят и не заставляют много работать. Сейчас ещё жёлтая осень. Мы изучаем много политической литературы обо всём в мире, и в первую очередь о Великом Советском Союзе. Я не считаю себя в плену, потому что Великий Вождь Товарищ Сталин не держит нас в плену, а учит хорошо работать и правильно понимать миролюбивую политику Первой страны социализма – Советского Союза. Сейчас я знаю, что мы – японские милитаристы очень виноваты перед Великим Советским Народом, и мы должны исправиться и помочь строить социализм!»
Письмо № 2
(перевод с японского)
«Здравствуй, Соня!
Почему-то мне кажется, что ты меня уже могла забыть. Но надеюсь, что нет. Я живой. Много работаем на стройке, на свежем воздухе, поэтому сил много. Хотя зачем я это всё пишу. Ты ведь всё равно никогда этого не прочитаешь, просто разговариваю с тобой, потому что все наши могут говорить только про любовь к твоей родине. Это не первое письмо, но все предыдущие я уничтожил. Я не хочу, чтобы кто-то читал мои мысли к тебе.
Как Верочка? Ходит ли она ещё в гимназию?
Интересно, что бы ты мне ответила, если бы его получила?
Твой Ко».
Письмо № 3
(перевод с японского)
«Здравствуй, Сонечка!
Пишу тебе нечасто. Сейчас было бы уместно перед тобой извиниться, но я ещё не «совсем сумасшедший». Помнишь, как меня дразнила Верочка, когда они с Сашиком надо мной издевались!
Кстати, никогда не понимал, что такое «Сашик»! Знаю, что есть русское имя «Александр», что можно сказать «Саша» или, как вы говорите и как нас учили в университете, «Саня», «Санька», а тут – «Сашик»! Мне одна его фамилия чего стоила – «Адельберг», да ещё и «фон». Помнишь, как я сократил его фамилию и обращался к его отцу – «Адэ-сан»! Мне за такое обращение к русским всегда здорово попадало от А-сан, хотя он и сам так называл его отца.
Пытаюсь вспомнить стишок, написанный твоей сестричкой. Верочка на меня тогда ещё сильно обиделась, когда я сказал, что он совсем детский и неправильно рифмованный.
Последняя слеза!
На молодой берёзке сидел птенец.
Боялся он ехидной кошки,
И не выскакивал он на дорожку,
Чтобы прожорливая кошка не съела глупого птенца.
Но так ему хотелось извилистого червячка!
И вот невинная душа сдержаться больше не смогла
И прыгнула, чтоб в лапки ухватить всего лишь червячка.
Но тут судьба его была превратна —
Не смог взлететь на дерево обратно!
И понял наш птенец, что жизнь так коротка.
А искушенье так звучало и казалось сладко!
Последняя слеза скатилась.
И лапа демонская впилась,
Безжалостно терзая
Ни в чём невинного птенца.
Глупый я тогда был. А с другой стороны, это было так неожиданно, девочка, ещё ребёнок, а пишет такие серьёзные и грустные стихи. Я был не готов к такому обороту. Тогда она меня и Сашика обозвала «сумасшедшими извращенцами». От Сашика отлипло, а ко мне прилипло! Откуда она и слова такие знала. Хотя вы, русские, сами немного извращенцы!
Воспроизвёл по памяти. Может быть, с ошибками, пусть меня Верочка простит и ты тоже.
Всё, писать больше не могу. Сейчас придёт охрана».
Письмо № 4
(перевод с японского)
«Здравствуй, Моя хорошая!
Лежу в больничке. Вспомнил танка Исикавы Такубоку. У нас его не поощряли, но мы его знали и потихоньку читали:
Прижавшись к окошку больницы,
Смотрю я, как бодро шагают
Разные люди…
Хотя наши-то не больно «бодро шагают»! Только ваши!.. Победители! А вообще, я думаю, что правильно, что победители. Ну ладно, об этом как-нибудь потом! Лежу отравленный. Наверное, пища… Нет, об этом не буду. Пища здесь хорошая! И вообще здесь всё хорошо!
Вон бабочки снуют
Туда-сюда – всё ищут
Ушедшую весну…
Сейчас снова вспомнил Верочкин стих и сразу нашего Басе:
В чашечке цветка
Дремлет шмель. Не тронь его,
Воробей-дружок!
Я тогда прочитал его Вере, на набережной, помнишь, а она сказала, что я извращенец. У неё птенец – жертва безвинная, а у меня «дружок» – агрессор, как вся наша японская рать. А я теперь сам как у Басе:
Странник! – Это слово
Станет именем моим.
Долгий дождь осенний!»
Письмо № 5
(перевод с японского)
«Здравствуй, Сонечка!
Меня, как, наверное, самого неопасного, как они думают, перевели со стройки в канцелярию на перевод документов к судебному процессу над японскими военными преступниками.
Сколько мы с тобой общались, а я, по-моему, так ни разу и не рассказал тебе ничего из моего детства и юности, а было и то и другое, до университета и до армии, я ведь, как и все, был ребёнком.
Жаль, что ты и этого не прочитаешь, но эти письма мне очень помогают. У нашего старого поэта Отомоно Якамоти есть такие слова:
Пусть жалок раб в селении глухом,
Далёком от тебя, как своды неба эти!..
Но если женщина грустит о нём, —
Я вижу в этом знак,
Что стоит жить на свете.
Так вот, о детстве.
У меня в детстве был старый сэнсэй, он обучал меня борьбе и фехтованию. Я и сейчас вижу, как он в нашей фехтовальной зале командует: «Ичи, ни, го, року… ку, дзю!», то есть: «Раз, два»… и т. д., и тут же громко орёт: «Медленно, медленно! Слишком медленно! Теряешь темп! Тебя уже пять раз убили! Или ты шевелишься, лентяй, несчастный, или на кулаки!»
На кулаки мне не хотелось. Это наказание такое за лень – отжиматься на кулаках. Хотелось есть, пить и смыться из дома на омут, который я незадолго до этого отыскал вместе с детьми нашей прислуги. Там стояли хариусы. Мне уже было лет десять, и я научился бить их острогой. Особенно хорошо это получалось, когда в речушке падала вода и в омуте было не так глубоко. Тогда хариус прижимался брюшком к каменистому дну и стоял почти не шевелясь.
А до того, зимой, я нашёл на задворках отцовского хозяйства старый наконечник от копья, каги-яри, длинный, как обоюдоострый кинжал, но такой ржавый и испещрённый червоточинами, что мне казалось, что он был изъеден какими-нибудь железными червями. Я его потёр об точильный камень, и наконечник засиял, как новенький. На бамбуковом древке он оказался замечательным орудием для чего хочешь, и ни один хариус с него не соскочил. Так я мечтал, и снова слышу:

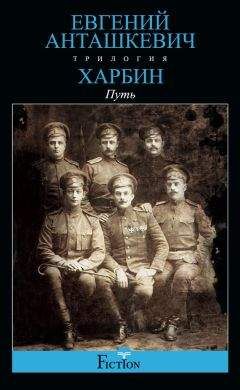
![Елена Верейская - Три девочки [История одной квартиры]](/uploads/posts/books/239265/239265.jpg)