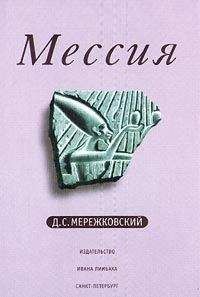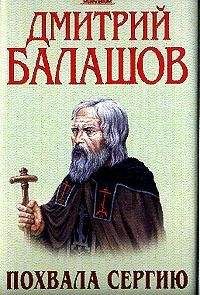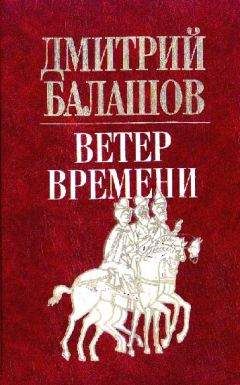Дмитрий Мережковский - Рождение богов. Тутанкамон на Крите
Это понравилось Туте; честно, без обмана: заплатил — получил.
— Смотри, смотри! — заговорила она. — Бедненький Пеночка, Пазифайин возлюбленный… Да что с ним сегодня? Прыгает, бесится как! У-у, страшный какой, божественный! Слава Адуну, вот когда начинается!
— А плясунья кто? — спросил Тута, не разглядев.
— Разве не видишь? Сама невеста бога Быка, Пазифайя — Эойя!
II
Эойя приехала в город накануне игр, чтобы повидать купца из Библоса, имевшего к ней предсмертное письмо Итобала.
Когда прочла, что отец простил и благословил ее, умирая, — точно гора свалилась с плеч ее. Обрадовалась так, что захотелось плясать, подумала: «Хорошо, что игры сегодня: так спляшу, как еще никогда!»
Об играх узнала в тот же день, за несколько часов. Дио, бывшую за городом, в своем уединенном доме, близ Гавани, известить успела бы, но не хотела: знала, что ей слишком тяжело сейчас выходить в толпу, плясать. С какою тяжестью в душе вернулась она с Горы, Эойя догадывалась: помнила, как усмехался, стоя на дереве, над пляскою фиад, тот бесстыдник, безбожник, диавол Таму.
В городе узнала она, что дня за три, в день игр, отмененных по болезни царя, схвачен был один из ристалищных бычников, пытавшийся опоить пьяным пойлом Пеночку. Тут же, на месте казнили его, по уставу игр: удавили на первой попавшейся веревке, как собаку, спаивать бога Быка считалось неслыханным злодейством. Все же имя Кинира, сына Уамарова, сообщника своего, он успел назвать перед смертью. Но никто ему не поверил: слишком почтенный старик был Кинир, чтобы участвовать в таком злодействе.
«Это он, Таму, диавол, ищет души моей», — подумала Эойя, услышав имя Кинира. «А ведь так легко, пожалуй, не отступятся: раз не удалось — в другой раз может удасться. Надо бы осмотреть Пеночку», — промелькнула мысль. Но странно-легко забыла об этом. «Легкий день сегодня: все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда!»
Выбежала на ристалище. Бык уже стоял на нем, один: всех остальных угнали, все плясуны и плясуньи ушли.
Увидев ее, пошел на нее медленно, уставив рога, взрывая пыль копытом, с мычанием глухо-прерывистым.
Она ждала его, не двигаясь; только искала глазами глаз его: знала, что для победы над зверем важнее всего человеческий взор.
Взор его уловила, но чуждый, мутный, как бы подернутый мертвой пленкой. Не он, не он, а кто-то другой глянул на нее из глаз его!
Бесится, бывало, всегда как будто притворно, только для зрителей, а на самом деле пляшет с ней ладно, мерно, под мерную музыку флейт. А теперь идет неуклюже, нелепо, шатаясь, как пьяный.
Подойдя почти вплотную, рванулся, ринулся на нее бешено. Ласточкой взлетела — перелетела она через рога его на спину. Легла, положила голову между рогов. Он поднял морду и дохнул на нее пьяным пойлом. Не испугалась. «Пусть пьян — укрощу и пьяного. Все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда!» — повторила, как заклинание.
Бык поднялся на дыбы, как будто хотел опрокинуться навзничь, чтобы раздавить ее всей своей тяжестью. Но уже соскочила с него и, прежде чем он успел повернуться к ней, — стояла на другом конце ристалища.
Вдруг, взглянув на толпу, увидела рядом с царским шатром, на почетной скамье, спереди, Кинира и Таму. «А, сучка, попалась! Ну, теперь уж конец — не отвертишься!» — прочла в глазах обоих. Но не испугалась:
«Все хорошо будет — так спляшу, как еще…»
Острый, как острие ножа, кончик рога царапнул ее по плечу. Бык набежал на нее сзади, когда смотрела на Кинира и Таму. Успела бы отскочить, если бы движение зверя было осмысленно; но опять рванулся, шатнулся нелепо, как пьяный, и задел ее нечаянно.
Кончик рога только скользнул по плечу и содрал с него кожу. Но уже текла тонкой струйкой по телу кровь.
Кровь увидев, толпа заревела неистово:
— Режь! Режь! Режь!
Жертву зарезать — заклать молила бога Быка.
Царь Идомин высунул бычью морду, личину, из-за шатровых завес, замахал красным, как кровь, лоскутом, и флейты запели песнь закланий жертвенных.
— Режь! — вопила и Эранна вместе с толпою.
«Если погибнет Эойя, то и Дио — с нею», — подумал Тута и привстал.
— Куда ты? — спросила Эранна.
— К царю.
— Зачем?
— Просить, чтоб пощадил Эойю.
— Не надо! Сиди, не пущу! — сказала она, схватила его за руку и опять усадила рядом с собой, почти грубо, насильственно. — Разве тебе здесь не хорошо?
Зонтик опустился и, слабея, пьянея от благоуханья женского тела-тлена, Тута припал ко груди богини Гатор. «Подло, подло! — думал он. — А ведь вот чем подлее, тем слаще…»
Эойя плясала, как еще никогда. Кровь струилась с плеча ее, но не чувствуя боли, взлетала — перелетала через быка легкой ласточкой.
Падали знойные сумерки. Мутно-белое небо нависло, как потолок. Душно было, как в бане, и в духоте задыхались два зверя — бык и толпа — от одной кровавой похоти.
Вспомнила Эойя, как однажды, в пустынном предместии Библоса, в сумерки, пьяный бродяга напал на нее, хотел осрамить. Спаслась тогда, но теперь уже не спасется. Два пьяных зверя — толпа и бык — шли на нее с одною похотью: осрамить — убить.
И еще вспомнила, как маленькие дети, жертвы Молоха, бьются в мешках; билась теперь и она в таком же мешке.
Вдруг сделалось жалко себя, и, вместе с жалостью, уколол сердце страх.
Бык шел на нее опять — уж который раз — вечно, казалось, шел и будет идти. Знала, что если она не отскочит сейчас, вздернет ее на рога. Но не могла пошевелиться, руки, ноги отнялись, как в страшном сне: вся отяжелела смертною тяжестью.
— Мать, помоги! — простонала, подняв глаза к небу.
Перед закатом по белому небу брызнула алая кровь, как будто заколалась жертва и там. Эойя закрыла глаза.
Глухо загудели бубны, флейты завизжали пронзительно, и хор запел:
Радуйся, чистая Дева,
Брачное ложе готовь!
Ярость небесного гнева
Да отвращает любовь!
Лейся из белого чрева
Алая, алая кровь!
Чресла Телицы божественной
Бык покроет, любя.
Песней торжественной
Славим тебя,
Богом избранная,
Богу закланная,
Дева-Мать несказанная!
К Туте на плечо склонилась Эранна, бледная, как мертвая — цветок туберозы, женским телом-тленом благоухающий.
— Смотри, смотри, смотри! Он ее сейчас… — шептала задыхающимся шепотом.
Зонтик поднялся, и Тута увидел, что между рогами быка, так же как там, на Горе, между руками фиад, какое-то кровавое лохмотье треплется. И в бычьем реве услышал он гул подземных громов: «Ужу провалитесь все в преисподнюю!»
III
— В Египет! В Египет! — повторяла Дио, глядя с плоской кровли дома на уходивший в море корабль.
Красногрудый, чернобокий, круто-изогнутый, как спина дельфина, с двумя на носу лазурными очами, чтобы высматривать в море свой путь, выплывал он из-за длинного мола Кносской гавани. Парус от безветрия повис, но двадцать пар весел сразу подымались, сразу опускались, влажно блестя, как плавники морского чудовища, и корабль шел на них быстро, влача за собой две голубоватые складки по белизне моря, почти такой же мглисто-опаловой, как небо.
Куда он идет, она не знала; но все корабли, казалось ей, идут в Египет. И, протянув к нему руки, повторяла:
— В Египет! В Египет!
Вспомнила древний вавилонский псалом: «Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Кто дал бы мне крылья, как у голубя? Улетела бы я и успокоилась, далеко удалилась бы и оставалась бы в пустыне!»
Вспомнила также царя Утукса — Одиссея, вечного странника:
Сильно меня устремило в Египет желание сердца.
В длинновесельном плывя корабле, из очей потерял я
Крита широко-равнинного снежные горы и прибыл
Дней через пять к светлоструйному устью потока Египта.
Колыбельные песни Египта напевала ей Зенра кормилица; о чудесах Египта рассказывал отец Аридоэль, — часто ходили туда корабли его, нагруженные критским лесом и пурпуром. С детства казалась ей эта чужая земля родною, как будто она жила в ней когда-то в незапамятно-давние дни и все хотела в нее вернуться, тосковала о ней, как о родине. Глядя на осенние станицы журавлей, улетавшие на юг, протягивала к ним руки, так же как сейчас — к уходящему кораблю:
— В Египет! В Египет!
Знала и теперь, когда смертные ужасы напали на нее, что бежать от них надо в Египет, и что спасет ее только величайший из сынов человеческих, царь Египта, Ахенатон.
Маленькая, сморщенная, как сморчок, старушка, под огромным, черным париком, точно гриб под шапкой, взошла на кровлю по наружной лестнице дома.
— А, Зенра, наконец-то! — воскликнула Дио. — Где же ты пропадала?
— Все по твоим же делам бегала; с ног сбилась, Туту искавши но городу.