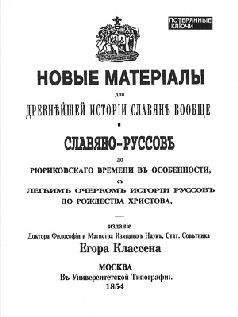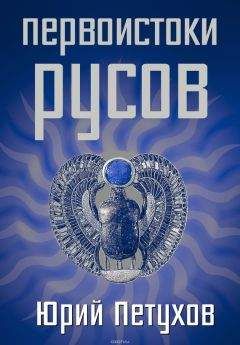Владимир Короткевич - Оружие
— Солдаты! — вдруг истошно закричал Богатырев. — Солдаты на дороге!
— Ну и что? — спросил Чивьин.
— Застрелят. Застрелят быка и собак. Черт с ним, с быком! Бу-у-шуюш-ка! Гол-лубушка!
— Черт с ними, с собаками, — сказал вдруг чей-то голос. — Вот бык — этот заслужил… Заслужил свободу.
Алесь обернулся на голос и увидел седого старика в полковничьем мундире и в шинели, наброшенной поверх. Старик почему-то напомнил ему дядьку Яроцкого.
— Кричите им, кричите им, господин Калашников. — Глаза Богатырева влажно блестели. — Крикните им, чтоб не стреляли!
— Далеко, — сказал полковник.
Бык шел, проваливаясь в грязь. Сгибался все ниже и ниже, и уже не ногами, а боками тащились по грязи псы.
Но он шел. Над его головой звенели в ослепительном сиянии жаворонки, и он шел навстречу им, из последних сил волоча на загривке свой крест.
— Мясники! Хлопцы! Ружья! Стреляйте в него! — кричал Богатырев.
— Тятенька, не надо!
А бык шел. Жаворонки звенели в сияющей голубизне, и он шел к ним. Шел к доброму серому стаду, что двигалось по дороге. К доброму серому стаду, что стало приветливо махать блестящими рогами, увидев его.
Сейчас он присоединится к ним, пойдет с ними. Далеко-далеко.
…Богатырев вдруг упал на колени.
— Лебедь! Лебедушка! Ату! Ату! Возьми его! Ату!
Лебедь отвернул изъеденную молью голову.
— Богатырев, — сказал Алесь, — что дашь за жизнь собак?
Богатырев метнул на него бешеный взгляд, но увидел, что Лебедь тянется к рукам Алеся.
— Барин, что хотите-с.
— Жизнь быка, — сказал Алесь. — И еще… берегите мальчика от такого…
— Барин… Барин… Только ско-орее…
Алесь положил руку на голову Лебедя. Пес смотрел на него, и зрачки его трепетали, а под вытертой шерстью волнами пробегала дрожь умиления.
Пес вздохнул.
— Возьми его, Лебедь.
И тогда пес повернулся и тяжело затрусил за быком. Поначалу он, казалось, не опускался, а падал на все четыре лапы после каждого прыжка, но потом разошелся, и если прежде напоминал тяжелый мех на четырех лапах, то теперь был похож на таран.
Шел к стаду бык, а за ним, медленно догоняя его, бежал на свой последний подвиг старый пес.
Богатырев увидел, что солдаты опустили ружья.
А бык увидел, как приветливо склонил к нему блестящие рога крайний бычок. Он ускорил шаг навстречу ему.
И в этот момент Лебедь настиг быка и грудью, всем весом своего матерого тела ударил его в зад.
Бык упал на колени и уже не смог подняться. С криками к нему бежали по пахоте мясники. Накинули на рога повод, пинками разогнали собак, повели к кругу.
Впереди, низко опустив голову, трусил Лебедь. Подошел, ткнулся холодным носом в Алесеву ладонь.
Богатырев дрожал, ощупывая Бушуя и Голубого. Те чуть дышали, но глубоких ран у них не было.
Бык спокойно стоял в стороне и незаметно тянул морду в сторону солнца и жаворонков.
— А с Лебедем что теперь прикажете делать, барин? — передохнув, спросил Богатырев.
— Не знаю. Может, взять с собой?
— Л-ладно, — сказал живодер. — А за то, что мне так удружили, может, возьмете и щенка? Вот внучка его-с. А?
— Почему бы и нет?
Богатырев счастливо рассмеялся.
— Ах, барин, барин, дорогой мой! Бушуй! Голубой! Песики мои! Да пускай он еще сто лет живет, этот бугай. — И вдруг захохотал. — А бугая?! Бугая куда?! Может, тоже с собой?! Может, в бумажку завернуть?!
Все глядели на быка с недоумением. Действительно, что делать с освобожденной жизнью? Куда его? Не в бричку же сажать да везти с собой?
И вдруг Калашников восторженно воскликнул:
— Нет, я вам его в бричку сажать не позволю. Такой боец! Наилучший в мире боец! Это же подумать только: из-под стеговца выдраться, тридцать пудов на себе носить, ворота выломить, всю эту свору разогнать, четырех таких псов сбросить! Как-кой боец!
И обратился к Алесю:
— Отдайте мне. Отдайте мне. Слово офицера, до конца дней моих пою-кормлю! Черт! Да ко мне будут со всей Москвы любопытные приходить, чтоб только поглядеть на такое диво. Ты, Богатырев, видел когда-нибудь такое?
— Никак нет, барин.
— Да еще если от него телят заиметь… Отдадите?
— Берите, — сказал Алесь.
Богатырев с Алесем шли к усадьбе, оставив всех далеко позади.
— Черт знает, как это могло случиться, — разводил руками сырейщик. — Ну, хорошо, Щелканов — первый бандит. А Сноп, а Михаила?! Ведь все знают, что кормлю я их лучше, чем кто в Москве. Работа такая, что без этого человек не задержится. И люди все свои, потому как на наше дело чужой человек не пойдет. Отчаянные парни, это так, лихие, когда надо оплеуху кому отвесить, подраться, конокрада, скажем, зашибить. Но чтоб разбой? Откуда это?
— Они, тятенька, с Алексашкой Щелкановым в картишки начали баловаться,
— вдруг прозвучал сзади удивительно приятный детский голосок. — Я слышал, играют с каким-то Хлюстом.
Старший Богатырев посуровел:
— Иди, Павлуша, иди.
Какое-то время псарь шел молча.
— Плохи дела.
— А что такое?
— Этот Хлюст из Ново-Андроньевской. Гнилой человечек. Бесчестный картежник. Сговорились, видимо, да и обмишулили хлопцев. А потом дело известное: плати деньгу или на жизнь играй. И большие, видать, деньги, если на разбой пошли. Ну, теперь все.
— Как все?
— А так. Не знаете вы наших босяков. Конец хлопцам. Прирежут их хлюстовские.
Алесь шел молча. Он прикидывал свои силы. Он, Мстислав, Кирдун, Кондрат Когут — четверо. И на этом все. Невероятный план постепенно слагался в его голове.
— Жаловаться будете-с? — спросил Богатырев.
— Зачем, если их все равно зарежут.
— Это правда-с, — вздохнул сырейщик. — Это как пить дать.
— Сколько они могли проиграть?
Богатырев пожал плечами:
— Пятерых на смерть послать? Думаю, рублей двести. Из-за меньшего не стали б мараться.
— Что ж, у вас тут цена жизни сорок рублей?
— Получается так, барин.
Алесь смотрел ему в глаза. Нет, глаза не лгали.
— Я могу заплатить за них деньги.
— Что за это потребуется?
— Мне нужны руки ваших людей, — сказал Алесь.
8
Роща словно нависла над Владимирским трактом. Светились под полуденным солнцем белые стволы берез, мягко шелестели ветви, почти незаметно, только если смотреть на рощу издали, тронутые зеленью.
Кустарник на склоне подступал к самой дороге, выложенной булыжником. Где-то далеко-далеко слева, по эту сторону дороги, угадывалась богатыревская усадьба, а напротив нее — Анненгофская посадка, за которой бесконечно тянулся Измайловский бор.
Люди сидели на откосе. Упряжки были отведены немного дальше, на лесную дорогу. В последний момент решили, что первую пару троек, на которой будут скакать к «лаптевской» подставе, лучше купить, а потом отвести в сторону от дороги и там бросить — кто-нибудь подберет.
Сейчас возле коней были те двое новосельцев, которых Чивьин не знал, сильные мрачные мужики.
Богатырев не солгал. Мужикам действительно надо было откупиться от Хлюста, только цена человеческой жизни была не сорок, а сорок пять рублей. Когда по приказу сырейщика незадачливые разбойники пришли к Алесю, они были в отчаянии.
Алесь уплатил долг. Столько же обещал за помощь.
И вот ожидали. Возле лошадей — тот, которому Алесь дал в пах (ему все еще было трудно ходить), и тот, кого он выбросил из брички (человек отделался ушибами).
Остальные трое сидели рядом. Рыжий Михаила, по прозвищу Семеновский, с распухшим носом. Рябой новоселец Васька Сноп. И еще саженный красавец Щелканов с нахальным и диковатым лицом.
— Этого берегитесь, — сказал Сноп Алесю. — Может и убить.
— Ничего. Мы уж как-нибудь не дадимся.
Сидели и ожидали. Алесь вспоминал сделанное за эти дни.
…Андрея действительно привезли перед пасхой и в тот же день — на пасху такого делать нельзя — били плетью во дворе Бутырской тюрьмы.
Кирюшка не подвел. Обошлось даже без «ожгу». Через два дня арестант мог ходить. Но Загорский знал, чего ему это стоило, ему, которого никто никогда не тронул пальцем, кроме как в драке, потому что детей у них бить не полагалось ни родителям, ни чужим, а конюшня — позор панского двора.
Узнав, что в Бутырках все более или менее в порядке, Алесь поехал на Рогожскую, чтоб отказаться на три дня от услуг Чивьина: незачем впутывать старика в это дело.
Была пасха. На улицах люди ходили с вербою, а под ногами хрустела малиновая, голубая и желтая яичная скорлупа. И, соревнуясь с нею в блеске, качались в воздухе связки забрызганных солнцем шаров, словно наполненных небом, солнечным сидром или кровью.
Продавали каких-то заморских раков, запечатанных в стеклянных сосудах с водой, — и солнце искрилось в воде. Продавали «тещины языки», что распрямляются до пояса, если подуешь, — и солнце дрожало на красных языках.
Но чем дальше к окраине, тем больше попадалось пьяных в лохмотьях — и то же солнце бесстыдно гуляло в прорехах.