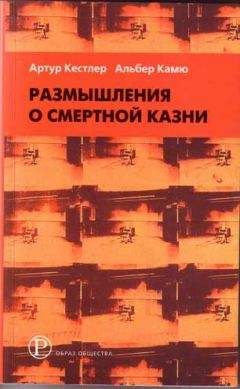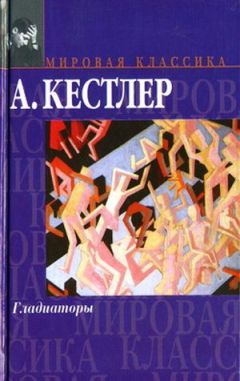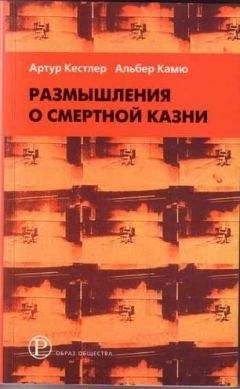Артур Кестлер - Гладиаторы
Не в том дело, возражал на это Зосим: не в силе желания, а в воле действовать… Действовать? Интересно, что на это сказали бы братья Энеи из Беневентума! Они втроем убили хозяина и давай подстрекать остальных рабов: станем, мол, вольными разбойниками, довольно гнуть спину! И каков результат? Очень простой: повесили всех троих братцев, как миленьких, повесили рядышком, вместе с волей и действием, да и с личностью в придачу…
Одним словом, если приглядеться, то все люди одинаковые, разве что один потолще, другой поумнее, третий красноречивее, а у четвертого нос свернут набок. Все это никак не объясняет, что такого особенного есть в Спартаке. И, между прочим, если как следует поразмыслить да приглядеться, то получится, что ничего в нем особенного и нет. Спартак и Спартак: расхаживает по лагерю, ну, рослый, зато немного сутулый, как лесоруб; никогда не снимает своих шкур. Наблюдательный, но молчаливый. Зато если что скажет, сразу выясняется, что это же самое готовилось сорваться и с твоего языка; а если скажет наоборот — что ж, значит, и ты думал наоборот. Улыбается редко, а если все-таки заулыбается, то наверняка не без причины, и от его улыбки у тебя теплеет на душе. Времени у него мало, но если он к кому присядет — к слугам Фанния или к пастухам из Лукании, то те довольны, хоть и не показывают виду, потому что наконец-то начинают понимать, зачем убивают время на этой сумасшедшей горе, вместо того, чтобы зажить по-старому, соблюдая закон и порядок и зная свое место.
Когда приказывает Каст, волей-неволей приходится повиноваться: перечить «гиенам» дураков нет. Когда командует Крикс, все подчиняются: как же не подчиниться такому огромному и суровому человеку! А когда что-то говорит Спартак, у тебя попросту не возникает желания противоречить — ну, не возникает, и все, что тут сделаешь? Какой смысл хотеть другого, не того, чего хочет Спартак, когда он хочет ровно того же, чего и все?
При этом не следует, конечно, забывать, что все хотят разного. Один хочет до конца своих дней проторчать на одном месте, другой рвется в Путеоли, спалить дом хозяина, и обязательно вместе с самим хозяином. Третий спит и видит, как бы захватить скопом корабль и взять курс на Александрию, прославившуюся своими женщинами. Четвертому мечтается напасть на Капую, сровнять ее с землей и возвести на ее месте новый город. Пятый ждет войны с Римом. Шестому хочется домой, к скотине — зачем его сюда занесло? Седьмой стремится на Сицилию, рабы которой уже заставляли трястись от страха гордый Рим. Восьмой рвется к киликийским пиратам, девятый — к чужим женам, а десятый считает самым важным запретить употреблять в пищу рыбу. У каждого свои желания, только одни объявляют о них в голос, даже готовы отстаивать их кулаками, а другие помалкивают. Но любой знает и чувствует, что человек в шкурах, обычный вообще-то человек, хочет точно того же, что и он. Так что этот сутулый, в шкурах — просто общий знаменатель для противоречивых желаний и надежд.
Возможно, в этом и заключалась его уникальность.
Приближался период дождей.
Прошло полмесяца после победы над Клодием Глабером; а после бегства семидесяти гладиаторов из Капуи минуло уже три месяца.
На горе Везувий иссякало продовольствие. Набеги на окрестные долины приносили все меньше добычи: вся округа, включая Геркуланум, Нолу и Помпеи, уже была обобрана. На десять миль вокруг долина Кампании, земной рай, сделалась голой и нищей, словно после нашествия саранчи. Города закрыли свои ворота, гарнизоны усилились и ощетинились оружием, в защитных стенах срочно заделывались бреши.
И все же поток людей, текший, вопреки законам природы, вверх на гору, не ослабевал. Заросшие бородами, в лохмотьях, покрытые шрамами, с кровоточащими ногами, они шли и шли. По пути они грабили имения, города же обходили стороной. Оружием им служили косы и заступы, топоры и палки. То были отбросы благословенной страны, мусор, удобряющий поля; они издавали смрад, тела их разъедали болезни. Они заносили в лагерь заразу и дурные привычки, отравляли его голодом и смутными, несбыточными надеждами.
Их ждал суровый прием. Те, кто прожил в лагере десять дней, взирали свысока на тех, кто заявился только три дня назад, а прожившие три дня уже считали себя старожилами и обдавали высокомерием новичков. В лагере царствовала скука. Началось брожение, некоторые уходили восвояси. Уходящих никто не останавливал. Пять тысяч людей жили на горе, изъяснялись на разных языках, ели, спорили, беседовали, ссорились из-за добычи и женщин, дружили, пели, убивали друг друга. И все это в ожидании — неизвестно чего.
Даже среди гладиаторов не было согласия, как поступить дальше. Пятьдесят главных зачинщиков встречались в своем узком кругу. Встречам этим, созывавшимся внутри кратера, предшествовали загадочные приготовления. Слуги Фанния таскали бурдюки с вином, а гладиаторы напускали на себя важность, ни дать ни взять сенаторы. Однако решения не принимались: всякий раз, подступая к вопросу о дальнейших действиях, они страшились определенности, отвлекались на второстепенные темы, затевали ссоры, шутили и в конце концов забывали, зачем собрались.
Спартак никогда не примыкал к проектам, рождавшимся ежедневно. Он молча выслушивал каждого и только под конец, когда встреча грозила завершиться полной неразберихой, коротко высказывался по не самым важным вопросам, по которым требовалось тем не менее немедля принять решение: провизия, оружие, места для вновь прибывших. Ему никогда не перечили, настолько разумны и просты были его предложения. Однако всех охватывало разочарование, потому что от него ждали главного слова, а он, казалось, не замечал этого ожидания.
Вместо этого он мало-помалу перестроил разношерстные шайки в когорты и центурии, поставив во главе каждой по гладиатору. Потом подробно растолковал, как в горах его родной Фракии делают оружие: деревянные копья с закаленными на костре наконечниками, круглые плетеные щиты, обтянутые свежими шкурами. Наконец, разделил всех на группы: авангард, резерв, регулярная пехота, тяжелая кавалерия в доспехах и с оружием разбитых римлян, легкая кавалерия с мечами и рогатинами.
На все это требовалось время. День шел за днем, и не проходило дня, чтобы не вспыхивало ссор, не произошло убийство; запасы продовольствия таяли, со дня на день должны были зарядить дожди.
Зато по истечении двух месяцев после поражения Клодия Глабера он достиг цели: слепил из бесформенной кучи глины, образовавшейся на горе Везувий, подобие армии.
Как-то раз, ровно через два месяца после поражения Клодия Глабера, слуги Фанния прошли по всему лагерю, повторяя призыв: отправить выборных представителей от каждых десяти человек в кратер, где состоится совет.
Лагерь охватило лихорадочное возбуждение. Люди собрались кучками, заговорили, заспорили. Поползли слухи. Лагерь очнулся, как после тяжкого забытья, и энергично стряхнул с себя сон.
Бесконечная процессия потянулась вверх по склону, к краю кратера. На совет предполагали допустить только старейшин и выборных десятников, однако к кратеру двинулись все; большинство шло по тропе, самые отважные карабкались по голым скалам. Большинство впервые увидело внутренность кратера, обугленные камни и застывшую в невероятных фигурах породу. С кромки кратера люди хлынули вниз, в жерло, устроив оглушительный камнепад. Новички впервые любовались памятными символами осады: фракийским сосудом, кельтским сосудом, скелетами зарезанных с голодухи мулов. На дне кратера росла озаряемая безжалостными лучами солнца толпа, быстро превращавшаяся в плотное, потное скопище. Даже на стенках кратера угнездились люди: они сидели на черных скалах, цеплялись за дикую лозу. Те, кому не хватило места внутри, довольствовались галеркой — кромкой кратера. Из кратера, как из огромной раковины, вырывался в раскаленный воздух невнятный тревожный гул.
Первые слова Спартака потонули в гомоне. Одетый в шкуры, он стоял на естественной трибуне — выпирающем куске скалы высоко над дном кратера; рядом с ним были Крикс, несколько гладиаторов и слуг Фанния. Запах тысяч распаренных тел сливался в общий смрад, ожидания каждого сливались в одно, страшное своей неотвратимостью. Спартак неловко вскинул руку — и тут же гладиаторы и здоровяки с ним рядом повторили его жест, добившись тишины. Спартак начал говорить во второй раз; стены кратера усиливали его голос.
— Скоро зарядят дожди, — сказал он. — У нас все меньше еды. Пора переходить на зимние квартиры.
«Он прав, — подумал пастух Гермий, сидевший на груде камней напротив. — Меня как раз это и тревожит». Одобрительно скаля зубы, он любовался Спартаком, выглядевшим сейчас очень величественно. Говорил он немногим громче, чем обычно; можно было подумать, что он обращается к одному пастуху.
— Римляне могут послать против нас новую армию, — продолжил Спартак. — Зимой нам будет нужен город, окруженный стенами, наш собственный город.