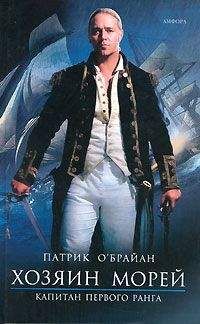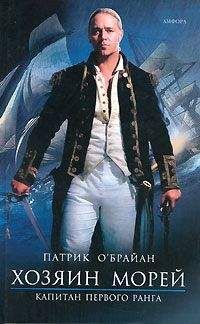Валерий Замыслов - Иван Болотников Кн.2
Вор, срамное рыло! Тыщу людей округ себя собрал, горлохват. А народ послушал, послушал да и давай вкупе с гилевщиком кричать: «Жив Дмитрий, коль за него велики муки примают. Не хотим боярского царя!»
Стрельцы наехали, разогнали. Но на каждый рот замок не повесишь. И на Варварке горло дерут, и на Арбатской, и на Троицкой… По всей Белокаменной воруют, смутьяны!
На другой день после своего воцарения Василий Иванович повелел доставить мощи «невинно убиенного младенца» Дмитрия из Углича в Архангельский собор Москвы.
Бояре ахнули:
— Да как сие можно, государь?! В храмы лишь мощи святых переносят. Пошто на Москве останки Дмитрия?
— Не останки, а мощи, — поправил Шуйский. — Чернь вновь ворует, о Самозванце мнит. Для подлого люда Самозванец — «заступник» да «Красно Солнышко». Народ сказкам мятежных людей верит. И покуда той сказке жить, не видать нам покоя на Руси. Упрячем «солнышко» в чулан.
— Как это? — не поняли бояре.
— Аль невдомек, — тоненько захихикал Василий Иванович. — Причислим Дмитрия к лику святых, в храм перенесем, икону намалюем. Вот те и Дмитрий-угодник.
Бояре рты разинули: Шуйский открыто шел на новую ложь. Но каково самому? Поверит ли чернь? Шуйский и без того изолгался без меры. В 1591 году, пресмыкаясь пред Борисом Годуновым, Василий Иванович прокричал с Лобного, что «царевич, играя в тычки, сам себя зарезал». Через пятнадцать лет, когда Самозванец шел к Москве, князь изрек: «Сын Ивана Грозного божьей милостью спасся и упрятался в Речи Посполитой». Теперь же повсюду заявляет и грамоты рассылает, что невинного младенца зарезали по приказу Бориса Годунова, а на престоле царском оказался беглый чернец Гришка Отрепьев.
«Мерзко Ваську слушать, — как-то обронил среди бояр князь Голицын. — Врет, что помелом метет. На одной неделе семь пятниц».
— Пошлем в Углич святых отцов, — продолжал Василий Иванович. — Пущай едет ростовский митрополит Филарет. Сей владыка чтим в народе. С ним же отправим добрых пастырей и Нагих. То дело богоугодное. Перенесем мощи в кремлевскую святыню — подлую чернь укротим. Буде трепать языками о спасении Дмитрия. Нравно ли то, бояре?
Бояре закивали бородами. Ловко придумал! Дмитрия — в святые, чернь — в смирение. То-то перестанут «законным царем» прикрываться. Глядишь, и смута утихнет. Ох, как нужно Руси покойное времечко!
Царь встречал «мощи» царевича у Сретенских ворот Белого города; встречал с синклитом духовенства, боярами, думными дворянами.
Василий Иванович, роняя слезу, благостно вздыхая и бормоча молитвы, нес тело новоявленного чудотворца до самого Архангельского собора. Подле, в великой скорби, ступала царица Мария Нагая.
Богомольные старушки заговорили:
— В святцы Дмитрия занесли.
— По всей Руси грамоты разослали.
— Святые отцы житие чудотворца пишут. Молитесь Дмитрию!
Посадские же тяглецы роняли иное:
— Сумленье берет, хрещеные! Нет Шуйскому веры, ведаем его козни.
— Не верьте Шубнику! Жив Красно Солнышко!
Истцы и соглядники доносили о крамоле государю.
Глава 6
В лугах
Дьяк Разрядного приказа писал:
«А как после Расстриги сел на государство царь Василий и в Польских, и в Украинных, и в Северских городах люди смутились и заворовали, крест царю Василию не целовали, воевод почали и ратных людей побивать и животы их грабить, и затеяли будто тот вор Расстрига из Москвы ушел, а в его место будто убит иной человек. В Борисове городе убили Михаила Богдановича Сабурова, в Белгороде убили князя Петра Ивановича Буйносова, а с Ливин Михайло Борисович Шейн утек душою да телом, а животы его и дворянские пограбили…»
Первым вернулся в Путивль Тимофей Шаров. Был взбудоражен, весел.
— Ладно съездил, воевода. Комарицкие мужики и холопы ждут тебя. Сказывают: все как один на боярского царя подымемся.
— Добро, Тимофей… Подождем, что другие посланцы скажут.
Прибыл Устим Секира.
— Елец полон оружия, батько. Есть и пушки, и зелье, и ратные доспехи.
— А пищали? — дотошно выпытывал Болотников. Когда обо всем разузнал, довольно подумал:
«Славный подарок оставил нам царь Дмитрий. Пойду на Елец, вооружу воинство, а там и на Москву».
Но на Елец идти не довелось. Прискакавший из Кром Нечайка Бобыль донес:
— Кромичи государю Дмитрию Иванычу присягнули. Народ ждет тебя, воевода… А еще, Иван Исаевич, прознал я, что на Кромы войско Шуйского движется. Ведет его боярин Михайла Нагой.
— Доподлинны ли вести?
— Доподлинны, Иван Исаевич. Из царского войска три ратника прибежали. Сказывают, Нагой в семи днях пути.
— Ай да Шубник, ай да хитрая лиса, — крутнул головой Болотников. — Никак опередить хочет. Мол, подавлю бунт в самом зародыше, покуда большой костер не запылал. Ловок, бестия.
— Кромичи просят твоей помощи, Иван Исаевич. Одним им с царской ратью не управиться.
Болотников в тот же день собрал совет.
— Пора на Москву идти, други. Но каким путем?
— И кумекать неча — через Елец. Там пищалей, сабель и брони на тыщи людей. Через Елец, батько! — уверенно произнес Секира.
О том же присоветовали Шаров и Нагиба. Но Юрий Беззубцев молвил иное:
— Поздно идти на Елец. Покуда за пищалями бежим, Михайла Нагой в Кромах будет. А терять Кромы нам нельзя — ближний путь на Москву.
— Близко видать, да далеко шагать, Юрий Данилыч, — сказал Секира. — Елец хоть и подале, но там оружье. Мужичье войско у нас, сам ведаешь, на топорах да рогатинах. На Елец, батько!
Но Болотников, неожиданно для всех, принял сторону Беззубцева.
— Плохо, други, коль кромцев в беде оставим. Не они ль первыми на Шуйского поднялись? На Кромы ныне весь народ смотрит. Сомнет крепость Шубник — и подрежет думы о волюшке. А то худо, думам тем надо крылья дать, дабы вольной птицей по Руси полетели. Негоже нам братьев своих покидать. Да и другое зело важно. Беззубцев прав: через Кромы прямой путь на Москву. Не зря ж Шуйский поспешает к оной крепости. Ведь на Елец же он не двинул рать, коварец. А там и пушки, и броня. Выходит, Кромы ему нужнее. Ближняя соломка-де лучше дальнего сенца. Не так ли, други?
— Пожалуй и так, батько, — согласился Устим Секира.
— На Кромы, воевода, — молвили Нечайка Бобыль и Тимофей Шаров.
Нагиба же отмолчался. Уходил с совета сумрачным.
«Не промахнулся ли, батька? Беззубцева послушал. А вдруг тот царев лазутчик? Что ему казаки да лапотная голь».
Выступать решили утром. А в тот же день в Путивль вернулся Матвей Аничкин. Вошел в Воеводскую с казаком в алой чуге. Казаку лет за сорок, чернявый, сухотелый, нос с горбинкой; загорелое лицо в сабельных шрамах, курчавая борода с сединой.
— Здорово жили, воевода… Не признал?
— Федор! — ахнул Иван Исаевич. — Федька, дьявол!
Воевода поспешно поднялся с лавки, крепко обнял Берсеня, а тот, несказанно радуясь встрече, восклицал:
— Жив, жив, друже любый!
Затем, отступив на шаг, зорко глянул на Ивана Исаевича.
— Однако ж хватил ты горюшка. Вон и борода в серебре, и кудри посеклись. А ведь каким орлом по степи летал.
— Да и тебя, Федор, жизнь изрядно тряхнула. Вижу, в курене не отлеживался. Ишь, как лицо изукрасили. Ятаганом?
— Было, Иван Исаевич. И ятаган, и ордынская сабелька. Дикое Поле!.. А сам-то как из полону выбрался?
— То сказ долгий, Федор, как-нибудь на досуге… Много ли донцов привел?
— Две тыщи.
Болотников вновь крепко обнял Берсеня.
— Доброе воинство. Приспел ты в самую пору, Федор.
Блеклое доранье.
Щербатый месяц свалился за шлемовидную маковку храма.
На караульных башнях клюют носами дозорные глядачи.
Путивль спит.
Иван Исаевич стоит на крепостной стене. Взор его устремлен в туманную даль. Вот-вот заиграет заря, опалив малиновым разливом поля и перелески.
Лицо Болотникова отрешенно-задумчиво.
«Господи, какая тишь! Какая благость окрест. Как будто нет на земле ни горя, ни лиха. Жить бы, радоваться да доброй работушкой душу тешить… Бывало, в эту пору с отцом в луга снаряжались. Славно-то как! Медвяные росы, густое сочное дикотравье в пояс. А воздух? Хмельной, пахучий. Душа поет… Отец без шапки, в белой рубахе. Косит — залюбень! Ловко, сноровисто, ходко. А как он стога вершил, какие одонья выкладывал!.. Добро в лугах, привольно».
И Болотникова неудержимо повлекло на простор. Он сошел вниз, сел на коня и выехал за ворота. Огрел плеткой Гнедка, гикнул и помчал. Скакал версты три, покуда не влетел в деревушку.
У избы, под поветью, сидел ражий крутоплечий мужик, отбивая на бабке косу.
Иван Исаевич спрыгнул с коня, спросил:
— Никак в луга?
Мужик искоса глянул на путника и продолжал громыхать ручником.
— Покос далече?