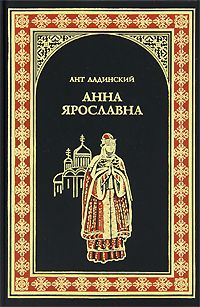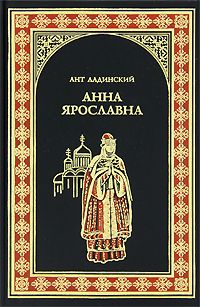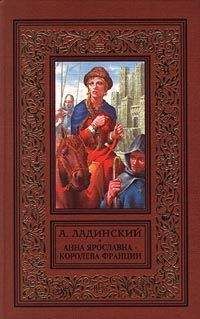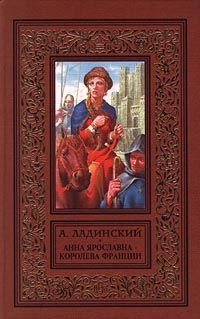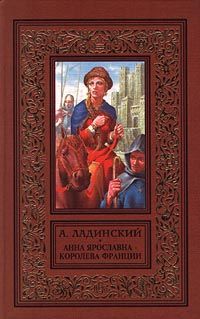Жан-Поль Рихтер - Зибенкэз
ЗИБЕНКЭЗ
КНИГА ПЕРВАЯ
Глава первая
День свадьбы с суточной просрочкой. — Двойники. — Двухактный квинтет из блюд. — Застольные речи. — Тройные объятия.
Зибенкэз, адвокат для бедных в имперском местечке Кушнаппель, провел весь понедельник, глядя в слуховое окно и ожидая появления своей невесты; она должна была прибыть из Аугсбурга рано утром, незадолго до заутрени, чтобы успеть выпить чего-нибудь теплого и немного закусить, прежде чем начнется церковная служба и свадебный обряд. Местный школьный советник, который как раз к этому дню должен был вернуться из Аугсбурга, обещал захватить с собою в качестве обратной поклажи нареченную Зибенкэза и привязать ее свадебную колесницу или приданое к своему сундуку, позади повозки. Невеста, уроженка Аугсбурга, — единственная дочь покойного лютеранского магистратского писца Эгелькраута, — жила в Фуггеровом квартале, в просторном доме, пожалуй, большем, чем иной салон, и вообще была не без средств, так как в отличие от придворных субреток, переведенных на пенсию, питалась трудами своих рук, а не чужих; к ней в руки, раньше чем к самым богатым барышням, попадали новейшие женские головные уборы (хотя и такого формата, что их не могла бы надеть даже утка), и по этой маленькой модели она изготовляла в крупном масштабе прекраснейшие чепцы, если они были заблаговременно заказаны.
Во время ожидания Зибенкэз не делал ровно ничего (если не считать сделанных им нескольких клятвенных заявлений, что поиски выдумал чорт, а ожидание — его бабушка!). Наконец взамен невесты к нему еще довольно рано прибыл ночной курьер с письмом, в котором школьный советник сообщал, что ранее вторника он и нареченная ни в коем случае не смогут прибыть, так как они еще работают, она — над своим подвенечным платьем, а он — в библиотеках бывших иезуитов и тайного советника Цопфа и братьев Фейт, а также занимается некоторыми городскими воротами. Последние, как известно, хранят еще для нас римские древности.
Однако мотыльковый хоботок Зибенкэза находил в каждом синем цветке чертополоха судьбы достаточно раскрытых нектариев; так, в этот незаполненный понедельник он мог в последний раз пройтись напильником и гладилкой по своей комнате, смести со стола писчими перьями припудрившую его пыль и просыпанный из песочницы песок, истребить бумажный мусор, накопившийся за зеркалом, с неимоверным трудом обтереть и сделать более белой фарфоровую чернильницу, выдвинуть вперед и выстроить в ряд на тронном помосте шкафа масленку и кофейные чашечки и начистить до ярко-желтого блеска медные гвозди кожаного дедовского кресла. Это новое очищение храма он предпринял в своей комнате лишь от скуки, ибо ученый считает порядком лишь тот порядок, в котором находятся книги и бумаги; кроме того адвокат утверждал, что «любовь к порядку, если ее правильно истолковать, является ничем иным, как похвальной готовностью человека в течение двадцати лет располагать какую-нибудь вещь всегда на одном и том же месте, тогда как самое это место может быть расположено, где ему угодно». — Он взял внаем не только превосходную комнату, но и длинный красный обеденный стол, который он придвинул к другому, низкому, а также высокие кресла; хозяев мебели и комнаты, которые все проживали в том же доме, он тоже намеревался взять во временное пользование для своего понедельничного праздника, который, следовательно, протек бы великолепно, так как совпал бы с понедельничным праздником гостей: большинство жильцов дома были простые ремесленники, и лишь домохозяин был человеком несколько более высокого ранга, а именно парикмахером.
Я постыдился бы расходовать драгоценные краски моей палитры исторического живописца на изображение такого адвоката для бедных, который сам нуждается в подобном адвокате, будь это в самом деле так; но в моих руках побывали отчеты по опеке над моим героем, которыми я в случае судебного разбирательства могу в любое время доказать, что он был обладателем по меньшей мере тысячи двухсот рейнских гульденов, не считая процентов. К сожалению, у древних и из собственного юмора он почерпнул неоспоримое презрение к деньгам, к этим металлическим колесам механизма, движущего человечество, к этому циферблату нашего достоинства, хотя благоразумным людям, например купцам, человек, наживающий деньги, внушает не менее почтения, чем тот, кто их раздаривает (подобно тому как наэлектризованный человек и при втекании и при истечении эфира приобретает светящийся ореол вокруг головы). Более того, Зибенкэз даже говорил — а прежде и осуществлял это на деле, — что иногда нужно в шутку навешивать на себя нищенскую суму, чтобы приучить к ней спину на случай, если придется сделать это всерьез; и он полагал, что спасает себя и заслуживает похвалу, упорно утверждая, будто легче терпеть бедность по примеру Эпиктета, чем избрать ее по примеру Антонина, и что легче, будучи рабом, спокойно дать сломать свою собственную ногу, чем оставить в целости ноги своих рабов, владея скипетром длиною в целый локоть. Поэтому Зибенкэз ухитрился прожить десять лет вне Кушнаппеля и полтора года в самом местечке, не потребовав от своего опекуна ни одного крейцера процентов с наследства. Свою невесту, лишенную как родителей, так и денег, он хотел неожиданно ввести в качестве штейгерши в снабженный прочным креплением серебряный рудник, каковым он считал свои тысячу двести гульденов с недоплаченными процентами; и поэтому во время своего краткого пребывания в Аугсбурге он усердно внушал ей, будто имеет лишь хлеб насущный и вынужден немедленно расходовать на свое пропитание скудный заработок, добытый в поте лица, но работает не хуже кого иного и не нуждается ни в чьей помощи. «Будь я проклят, — давно уже сказал он, — если я женюсь на такой, которая знает о моем доходе; женщины и без того уже считают мужа за воплощенного чорта, которому они отдают свою душу, а часто и ребенка, чтобы злой дух приносил им неразменную монету и пищу».
В этот понедельник за самым долгим летним днем последовала самая долгая зимняя ночь, хотя чисто астрономически это невозможно. На следующее утро спозаранку приехал школьный советник Штибель; из ковчега своей кареты (ученого человека изысканные манеры украшают вдвойне) он извлек манекен для чепцов, взамен невесты, а затем, приказав выгрузить прочее ее приданое, заключавшееся в обитом белой жестью дорожном сундуке, взял манекен подмышку и взбежал с ним наверх к адвокату. «Ваша высокочтимая невеста, — сказал он, — прибудет сейчас же вслед за мной; она остановилась в фольварке, чтобы принарядиться к свадьбе, и просила меня поехать предупредить вас, чтобы вы не беспокоились. Поистине, она подобна жене, которую ставит в пример Соломон, и я искренно вас поздравляю с такой супругой!»
«Господин адвокат Зибенкэз, моя красавица? Я могу вас проводить к нему, он у меня самого и находится, любезнейшая, и я готов вам услужить» — сказал парикмахер внизу, У дверей, и хотел вести ее под-руку наверх; но так как у нее еще оставался в повозке второй манекен для чепцов, то она обхватила его, как ребенка, левой рукой (парикмахер тщетно пытался сам понести манекен) и, неуверенно шагая, поднялась за хозяином в комнату к обоим мужчинам. Жениху она лишь протянула, с глубоким реверансом и тихим приветом, правую руку, и на полном круглом личике — на нем все было округлое, лоб, глаза, рот и подбородок — лилии сменились пышно расцветшими розами; но тем миловиднее выглядело оно под большой черной шелковой шляпой, а белоснежное муслиновое платье с многоцветным искусственным букетом и белые кончики башмаков придавали еще больше прелести застенчивой фигуре невесты. Так как до начала свадебного обряда и для выполнения парикмахерского уже оставалось мало времени, она поспешно развязала ленты своей шляпы, а миртовый веночек (спрятанный под нею от взоров посторонних людей во время пребывания в фольварке) положила на стол, чтобы ее голова, подобно головам прочих участников предстоявшего торжества, могла быть, как должно, причесана и напудрена уже приготовившимся к тому домохозяином.
Милая моя Ленетта! Хотя невеста для всякого, кто на ней не женится, а для меня тем более, много дней остается скудным, жалким священным хлебом, выставленным лишь для поглядения, а не для съедения, однако я делаю изъятие для одного часа, а именно для предсвадебного утра, когда она прощается со своей прежней свободой и, трепеща в своем тяжелом уборе, вся в цветах и перьях (которые как в буквальном, так и в переносном смысле скоро будут оборваны судьбою), с тревожным и задумчивым взглядом, в последний раз делится с матерью прекрасными излияниями своего сердца; да, для меня трогателен этот час, когда она, в своем брачном наряде, справляет на разукрашенном помосте празднество, приносящее ей столько разлук и лишь один новый союз, — когда мать отвращается от нее, уходит к другим детям и покидает ее, боязливую, с чужим человеком. О радостно трепещущее сердце, — думаю я в этот час, — не всегда будешь ты так биться в тяжелые годы брачной жизни. Нередко тебе придется проливать собственную кровь ради большей устойчивости при нисхождении в старость, подобно тому как охотники за сернами держатся на липкой крови собственных пяток. Когда девушки завистливым взглядом провожают невесту на пути в церковь, я хотел бы подойти к ним и сказать: не завидуйте так сильно блаженству бедняжки — быть может, это лишь обманчивая мечта. Ах, ведь брачное яблоко красоты и раздора вы, как и невеста, сегодня видите лишь со стороны, освещенной солнцем любви, где оно так румяно и нежно; но скрытую в тени зеленую, кислую сторону яблока не видит никто. И если вам когда-либо довелось от души сострадать несчастной супруге, которая через десять лет случайно вынула из сундука свой обветшалый подвенечный наряд и вдруг залилась слезами, оплакивая утраченные за десять лет отрадные иллюзии, — то уверены ли вы, что никогда такою не увидите ту, которая сегодня в праздничном блеске проходит мимо вас и внушает вам зависть?