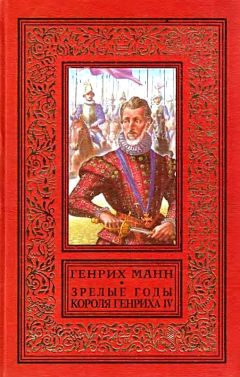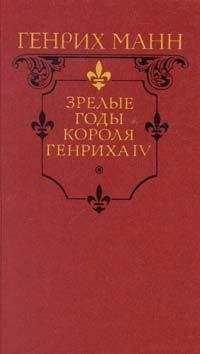Генрих Манн - Молодые годы короля Генриха IV
— Помни, для них всего важнее, чтобы ты был в их руках. Основное правило мадам Екатерины — чтобы ее враги всегда находились у нее в доме; а после сыновей, которые так легко истекают кровью, ты первый имеешь все права на французский престол. Я отлично знаю, что она надеется с твоей помощью отделаться от Гизов — их род кажется ей более опасным, чем наш, — презрительно пояснила она, — и все же главное для королевы — заманить тебя к своему двору. Но этому я воспрепятствую, я сама туда поеду вместо тебя, а тогда увидим, кто кого.
Колиньи угрюмо кивнул.
— А я буду следовать по пятам вашего величества. Все наши требования должны быть приняты, иначе протестантское войско во главе с принцем Наваррским пойдет на Париж. Тогда уж никакой пощады не будет!
Юноше подумалось, что и до того пощады было маловато! Внутренним взором он увидел, как корчатся подвешенные к стропилам крестьяне, а у них под ногами пылает огонь. Но как тут возражать, если даже его дорогая, умудренная опытом мать утверждает: таков закон жизни и настоящая борьба за веру и за престол иной быть не может. Да и заслуживают ли лучшей участи мадам Екатерина и ее католики, раз даже его мать им не доверяет?
— Мама, — воскликнул он, — не поедешь ты туда! Они сделают с тобой что-нибудь злое! — Генрих выкрикнул это, словно перепуганный ребенок. Жанна притянула к себе сына, положила его голову на свои колени и так сказала — и ему, и себе, и своему сердцу:
— Когда женщина одна-одинешенька — это самое безопасное. И если некому защитить ее — бог защитит. Но что я перед богом теперь? Когда-то я представляла собой нечто бесконечно важное — сосуд веры. Теперь он опустел и может разбиться.
Ей чудилось, что она говорит вслух, на самом деле она произнесла это в своих мыслях; но этими словами Жанна д’Альбре приносила в жертву свою жизнь.
Их совещание кончилось. Сын и адмирал простились с нею.
ВОИСТИНУ ОДНА-ЕДИНСТВЕННАЯ
Выйдя из зала, Генрих встретил своего кузена Конде и Ларошфуко — это был тоже один из тех молодых людей, с кем он позволял себе откровенничать.
— Итак, я женюсь на сестре французского короля. К тому же это единственная должность при дворе, которая еще не занята. Там уже есть канцлер, секретарь, казначей и шут. Не хватает только рогоносца — вот я им и буду.
Он подпрыгнул и рассмеялся с такой заразительной веселостью, что оба невольно последовали его примеру, хотя и были неприятно поражены его словами.
Королева Наваррская возвратилась к себе в Беарн. Стояла осень, Жанну снова посетил посланец от Екатерины — его звали Бирон, — и теперь она уже не ответила ему отказом. Она только поставила самые первые, предварительные условия: бесчисленные несправедливости, содеянные по отношению к протестантам, необходимо исправить, надо очистить один город на юге, удалить из Парижа некий кощунственный крест. Она заявила напрямик, что обмануть ее не удастся, как иных прочих, столь доверчиво приезжавших ко двору!
Была осень, потом пришла зима, и лишь тогда она решительно двинулась в путь. Перед тем Жанна болела лихорадкой, ее сын упал и расшибся; казалось бы, эти происшествия должны послужить ей предостережением. Однако мать и сын все-таки распростились друг с другом; это произошло в городе Ажене, января месяца тринадцатого дня, в год семьдесят второй. Ни синева неба, ни залитая солнцем дорога — ничто не предвещало, что их прощание последнее. Лошади тронули, колеса обитою кожей кареты покатились, еще было видно, как бледная Жанна и ее дочка Екатерина кивают и улыбаются. А сын стоял возле своего коня и смотрел то на мать, то на сестру. Он заметил, что глаза матери за последнее время еще больше ввалились, чернота под ними уже дошла до скул. Затем он увидел, как улыбка на ее лице окаменела, и понял, что она уже не различает его лица — ведь расстояние становилось все больше, да и слезы мешали.
А брат и сестра — глаза у них были молодые — еще несколько мгновений проникновенно смотрели друг на друга. Взгляд Генриха как бы говорил сестре: — Помни. — И она отвечала ему: — Знаю. — Он говорил: — При первом намеке на опасность сейчас же шли гонца. — Она же с тоской молила: — Поскорей бы ты опять был сами! — Его глаза еще успели бросить ей вдогонку: — Береги нашу дорогую мать, береги! — Но тут карета скрылась за поворотом, и все исчезло. Пыль, поднятая последним всадником, еще стояла над озаренной солнцем дорогой, затем рассеялась и она.
В течение шести месяцев Генрих получал письма от Жанны — самые драгоценные письма в его жизни. Ибо скольких женщин он ни боготворил, скольким ни отдавал свою силу, он всегда чувствовал, что, в сущности, лишь одна-единственная действительно боролась за него и дышала ради него последними остатками своих легких.
Когда в феврале Жанна добралась до Тура, она охотно повернула бы обратно, но было уже поздно. Слушая речь тех господ, которых Екатерина выслала приветствовать ее, она сразу же поняла, что ее действительно хотят обмануть. Королева-мать и король, ее сын, тогда находились в Блуа, однако они выехали ей навстречу. И тут уж Жанна д’Альбре не пожелала терять даром ни одного мига своей столь драгоценной жизни: она немедленно потребовала, чтобы невеста ее сына перешла в протестантство. Самым опасным было то, что королева-мать не отказала ей напрямик; Медичи — притворилась, будто даже мысли не допускает, что это говорится всерьез: просто одна из причуд, возникшая в затуманенном мозгу нервической, экзальтированной особы, которую приходится успокаивать неизменным игривым благодушием, а уж за этим у Екатерины дело не станет. Страшная старуха всегда была готова к смешкам да шуткам, в течение всей зимы и до мая, — словом, все то долгое время, пока они торговались в замке Блуа. Однако Жанна, чувствуя, что силы ее убывают и что она вынуждена как можно расчетливее тратить их, ни разу не потеряла самообладания — ведь это сократило бы еще на несколько дней ее жизнь.
— А старая королева все шутила: — Послушайте, милая подружка, что будет за дело вашему ретивому петушку до того, какой веры моя хорошенькая курочка, когда он ее… — Она выговаривала эти слова громко и смачно, так что слышали и другие и начинали хохотать. Если бы даже Жанна дала волю своему гневу, ей бы все равно не перекричать этот хохот. Поэтому она и сама улыбалась деланной, кривой улыбкой, но в этой улыбке чувствовалось что-то совсем другое, чем в единодушной веселости остальных. Жанна изо всех сил старалась держаться с тем спокойным превосходством, которое так естественно для здоровых людей. Только бы не выдать себя, не показать, как она больна! Ведь тогда она окажется во власти врагов.
Екатерина придавала своей лжи вид шутки — тем труднее было с ней бороться. Она беззастенчиво утверждала, что воспитатель принца Наваррского сообщил ей, будто принц, что касается до него, хоть сейчас готов обвенчаться по католическому обряду, и даже заочно, пока он еще сидит у себя на юге, — настолько-де ему не терпится.
Жанна сухо ответила: — Удивляюсь, что мне решительно ничего не известно о желаниях моего сына, а вы, мадам, так хорошо о них осведомлены!
— Он вам, наверное, тоже хотел сказать, да позабыл за своими галантными похождениями, — съязвила Екатерина и повертела толстыми бедрами — вот-вот пустится в пляс на своих куцых ножках.
А затем, когда изнемогшая Жанна удалилась к себе, страшная старуха изобразила своим приближенным все это навыворот. Жанна сама-де упрашивала, чтоб непременно взяли в зятья ее сынка, католиком либо протестантом — все равно, только бы поскорее. К Жанне все потом приставали с этим, и протестанты гневно корили ее; а бесчисленные почетные фрейлины Екатерины не давали королеве Наваррской покоя со своими грезами о волшебном принце, приезду которого они радовались, как дети. Впрочем, эти почетные фрейлины уже никому не могли принести почета, а лишь подарить удовольствие, что они и делали по малейшему знаку своей бесстыжей госпожи. Но они добросовестно выполняли возложенное на них поручение — показать чувствительной Жанне развращенность французского двора во всей наготе, чтобы тем успешнее подорвать ее силы. Едва наступал вечер, и даже раньше, королевский двор уподоблялся непотребному дому. Только Марго, невеста, держалась в стороне.
ФЛОРЕНТИЙСКИЙ КОВЕР
Мать Генриха не могла отрицать, что принцесса Валуа ведет себя вполне благопристойно, да и сложена безупречно, хотя уж чересчур затягивается. У Марго было белоснежное лицо, спокойное и ясное, как небо, — так, по крайней мере, выразился некий придворный по имени Брантом; но Жанна отлично умела разобраться, что здесь от жеманства, а что от белил. Тут их накладывали так густо, как, пожалуй, только в Испании. Да и придворные, конечно, преувеличивали прелести своего божества, точь-в-точь как идолопоклонники. Жанне довелось наблюдать из безопасного отдаления некую безбожную процессию, главным действующим лицом которой был отнюдь не поп и даже не епископ: предметом единодушного поклонения дворян и народа оказалась Марго, сверкающая жемчугами и каменьями, осыпанная ими, как звездами, с головы до пят. Простолюдины стояли на коленях по обеим сторонам улицы. А кто шел в процессии, тому казалось, что толпа несет его. Над всей этой давкой стояло многоголосое бормотание, похожее на молитву. Вероятно, это было кощунством.