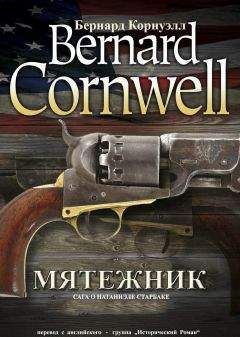Василий Балябин - Забайкальцы. Книга 3.
— Вот и ладно. Документ мне надо переменить. Написать я его сам напишу на имя какого-нибудь из здешних жителей, а вот печать сможешь устроить?
— Сделаю, тесть спит как убитый, печать его знаю, где лежит, в момент приволоку.
Утром Федоров поднялся задолго до рассвета. Когда из-за далеких, темных гор, на китайской стороне, взошла зарница, Федоров, одетый по-дорожному, уже усаживался на охапке сена в санях-кошевке. Отдохнувший за ночь, напоенный и выкормленный овсом, конь его нетерпеливо перебирал ногами, рвал из рук хозяина вожжи.
Мишка проводил гостя за ворота. В улице Федоров, пожимая Мишке руку, сказал на прощанье:
— Спасибо тебе за все, Ушаков. Кланяйся товарищам нашим, и будьте начеку.
— Будем, Абрам Яковлевич!
— До скорой встречи!
— Счастливый путь!
ГЛАВА XIII
В Китае, в отрогах скалистого хребта Большой Хинган, берет свое начало река Аргунь — китайцы называют ее Хайлар. Небольшой речушкой течет она к югу в сторону солнечной Монголии, но у китайского города, носящего тоже название Хайлар, она постепенно сворачивает к западу и, проделав не одну сотню километров около озера Джалай-Нор, круто поворачивает на север. Отсюда, начиная от казачьего села Абагайтуй и вплоть до слияния ее с Шилкой, Аргунь становится рекой пограничной: левый берег ее русский, правый — китайский.
Неторопливо катит свои воды красавица Аргунь. Здесь, в верхнем течении, по обе стороны реки раскинулись огромные, необозримые степи. Скачи по ним хоть целый день на самом резвом бегунце — и нигде не увидишь ни деревца, ни кустика, ни пашни. Раздолье для местных богачей-скотоводов, чьи тысячные табуны скота, лошадей и овец пасутся в степях круглый год, благо, что снегу здесь мало выпадает зимой, а морозы не страшны ни скоту, ни пастухам, — привыкли. До чего же хороши эти степи даурские в летнюю пору, когда оденутся они зеленым ковром разнотравья, а в голубом разливе остреца, перевитого зеленью кудрявой вязили, зацветут желтые маки, алые как кровь саранки, малиновые бархатцы и множество других таких же ярких цветов, щедро раскиданных по степи искусной художницей — природой.
Вот эти степи лазоревые, среди которых Абрам Федоров провел свое детство и молодость, снились ему всю ночь, после того как пришел он с собрания фронтовиков в одном из сел Аргунской станицы.
Проснулся Федоров, когда за посветлевшими окнами угадывался рассвет. В горнице ни души, тепло, тихо, из-за плотно прикрытой филенчатой двери доносится сдержанный говор, позвякивает сковородка. Абрам повернулся на другой бок, с головой укрылся стеганым одеялом, но сон уже не шел, вспомнилось вчерашнее собрание. Собралось фронтовиков человек сорок, все они, так же как и в других селах Аргунской станицы, охотно слушали Абрама, высказывались за восстание. Особенно запомнился Абраму белокурый, широкоплечий казак Молоков.
— Мы, товарищ Федоров, — говорил казак, пощипывая белесый ус, — ишо на фронте были за революцию, как нам, значит, Фролом Балябиным да Богомягковым были открытые глаза на политику большевистскую. Через это, значит, в Гомеле, когда мы там переворот учинили, вместо командиров царских — своих поставили, выборных, и присягу приняли на верность власти советской, рабочей. А вить мы народ крепкий на веру, клятвы сроду не нарушали, потому и согласны пойти на восстание супротив Семеновых и других белых правителей, за советскую власть, одним словом.
Молокова дружно поддержали и остальные фронтовики, заявившие, что готовы к выступлению хоть завтра.
«Двести восемнадцать человек уже записалось в повстанцы, — улыбаясь, рассуждал про себя Абрам, — и это в одной лишь Аргунской станице, а люди-то какие: охотники-стрелки. Если и дальше так пойдет, то лишь в этих трех станицах — Аргунской, Усть-Уровской да Аркиинской — целый полк казачий наберется. А если еще прихватить Богдатскую, Актагучинскую, Догьинскую и дальше по Газимуру, по Шилке, да прииски, да крестьянские села! Вот она, силушка-то народная…»
Уже совсем рассвело, когда Абрам, одевшись, вышел в переднюю комнату к хозяевам. Они уже давно были на ногах. Старичок хозяин двоих сыновей отправил в лес за дровами, а сам и корму надавал скоту, и в стайке вычистил, а теперь сидел спиной к русской печке за починкой хомута. Напротив него в заднем углу, на соломенной подстилке, лежал пестрый теленок, а рядом, в плетенной из тальника мордушке, копошились, бебекая, два козленка. Хозяйка, такая же щуплая, седовласая старушка в темном платье, сидела на скамье у стола с годовалым внуком на руках. А невестка, жена старшего сына, пышнотелая, розовощекая молодица, хлопотала в кути у жарко топившейся печки, месила тесто в квашне.
В теплом, спертом воздухе избы мешались запахи кислой овчины, прелой соломы и топленого масла.
— Доброе утро, — ответил старик на приветствие Абрама и отложил в сторону хомут. — Как спалось? Хорошо? Ну слава богу. Дай-ко я солью на руки-то. Наталья, полотенце подай да самовар подшевели, я тоже выпью с гостем-то стаканов пару.
За чаем разговорились.
— Охотничаешь, дедушка? — спросил Абрам, кивком головы показав на заднюю стену, где рядом с шашкой висела охотничья берданка.
— Бывает между делом. — Дед налил себе второй стакан, стопку гречневых колобов, только что поданных невесткой, придвинул ближе к Абраму. — Кушай, пожалуйста, горяченьких. А насчет охоты, так у нас почесть все охотники, в каждом доме, даже и по два, по три есть в одной семье. Тайга-матушка, зверя в ней всякого полно: и козы, и белки, и лисицы, даже соболь водится.
— Стрелки хорошие?
— Да уж это само собой, шкуру у белки-то никто не испортит, в глаз ее бьем малой пулькой.
И от разговоров этих у Федорова губы разъезжались в довольной улыбке. Невольно вспомнились ему прошедшие собрания фронтовиков — будущих партизан, ведь все же они такие вот охотники, стрелки и джигиты, радость так и распирала грудь Абрама, и, чтобы сдержать ее, он перевел разговор на другое:
— Диву даюсь я здешним местам, Корней Семенович. Ведь та же самая Аргунь, а какая разница в природе, прямо-таки на удивление!
Там у нас, к примеру, в нашей Дуроевской станице, степь раздольная, а здесь горы, скалы, хребты громадные. Там у нас ни плуга, ни бороны в глаза не видали, а здесь все сплошь хлеборобы. Наши казаки не знают, на чем и веники растут, а здесь тайга дремучая.
— Да это ишо што-о, — старик ощерил в улыбке желтоватые и мелкие, как у хорька, зубы, — вот туда ниже-то горы да тайга, это действительно такая глухомань, што на телеге-то в лес и не суйся. Тележная дорога-то, братец ты мой, есть только до Джоктанки, это уж Усть-Уровской станицы поселок, а там от села до села только вершно ездят по тропам да на батах по Аргуни.
— А где же хлеб-то они сеют?
— Корчуют из-под лесу. Там, братец ты мой, каждая пашенка таких трудов стоит, что не создай господь. Лет по пять, по шесть трудятся допрежь того, как пшеничку-то на нее посеять, во как! Трудяги народ здесь, ох и трудяги.
— Ну хорошо, раскорчует человек лес, пашню обработает, а как же на нее плуг доставить, бороны, семена?
— Плуги на соховозках возят, бороны на волокуше — две жердочки небольшие, запрягет в них коня, бороны на них привяжет кверху зубьями и пошел с горки на горку, барин даст на водку, ну а семена вьючно: перекинет мешок через седло — и полный порядок.
Слушал бы словоохотливого старика и дальше Абрам, но он помнил и о деле — ехать надо дальше, время не терпит. Поэтому сразу же после завтрака он поблагодарил хозяев, положил на стол десятирублевую романовскую бумажку, при виде которой посуровел, нахмурился хозяин.
— Это што же такое? — с обидой в голосе заговорил он. — Не-ет, мил человек, у нас вить это не принято. Брать плату с гостя, што же мы, нехристи какие? Даже обидно становится.
— Извините, Корней Семенович, — пробормотал смутившийся Абрам, пряча в карман злополучную десятирублевку, — я-то считал неудобным, третий день у вас проживаю.
— Да мы рады, што заезжают и к нам добрые люди, не брезгуют нашим хлебом-солью. Живи у нас, Христос-то с тобой, хоть месяц, нам ишо лучше, веселее.
— Спасибо, Корней Семенович, большое спасибо. Но сегодня надо мне ехать дальше, дело-то не ждет.
— Э-э, братец ты мой, дело не коза — в лес не убежит. Побудь ишо хоть денек-то. Баню истопим, помоемся да к свату Ефиму сходим. Он вчера гурана здоровенного своротил, звал на свежину, гульнем по такому случаю.
— С удовольствием бы, — развел руками Абрам, — но не могу. Схожу к атаману, обещал он подводу дать до Джоктанки.
— Эка досада какая! — старик сожалеюще вздохнул. — Ну уж раз ты такой несговорчивый, то хоть отвезу тебя до Джоктанки, чего ишо ходить по властям, с атаманом сам столкуюсь, штобы засчитал эту поездку за очередь на междудворке. А я там, кстати, и сослуживца своего повидаю, Ивана Пальцева, давненько не виделись.