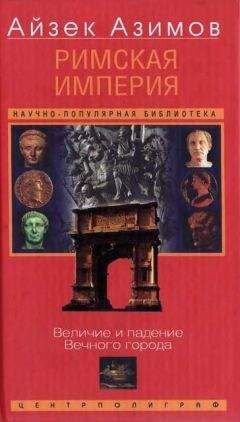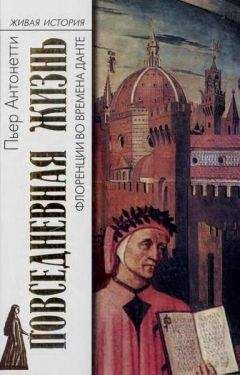Антония Байетт - Детская книга
— Мы получили письмо, — сказала Катарина. — В нем сообщается, что наш сын Чарльз пропал без вести. Там написано — мы можем считать, что он мертв.
Элси глотнула воды. Она словно окаменела.
— У нас было письмо от него, — продолжала Катарина. — На случай… на такой случай. Он просил найти вас.
— Это правда, — тонким, ровным голосом сказала Элси. — То, что он сказал. Мы поженились перед его уходом. Священник покажет вам приходскую книгу. Не беспокойтесь. Мне ничего не нужно. Я не буду вас беспокоить.
— Он нас об этом предупреждал. «Она очень независима. Заботиться о ней тяжело, я знаю это по опыту».
— Да, в этом он весь, — сказала Элси. Одинокая слеза скатилась у нее по щеке. — Я жила здесь с миссис Оукшотт. Робином и Энн. Робина убили во Франции. Как и Робина миссис Уэллвуд. Поэтому, когда школу закрыли, миссис Оукшотт пошла работать в госпиталь в Хоуве. Военные хотели забрать этот коттедж — под жилье для солдат, — но я должна была оставаться здесь и присматривать за Энн. Филип во Фландрии — это мой брат. Чарльз однажды приходил в отпуск — через некоторое время после того, как Робина убили. Он оставил немного денег. Мне нужно искать работу. Энн уже почти взрослая. Ей тоже придется пойти работать.
— Энн? — переспросила Катарина.
— О, нет. Даже не думайте. Энн шестнадцать лет. Она не… не ваша внучка.
— Так вы до этого были замужем? — спросил Бэзил Уэллвуд.
— Нет. Не была. Энн была… ошибкой. Он не рассказал вам об Энн.
— Нет, не рассказал.
— Когда мы венчались, Энн была подружкой невесты. Он очень любит Энн. Любил.
Они сидели и маленькими глотками пили воду, окутанные туманом подозрительности.
— Не волнуйтесь, — сказала Элси. — Мы с Энн вас беспокоить не будем.
Тут Катарина Уэллвуд удивила самое себя.
— Кроме вас и Энн, есть еще кое-кто. Верно ведь?
— Не пойму, как вы увидели. Еще ничего не заметно.
— Вы так держите руки… — объяснила Катарина. — Вы не должны скрывать от нас нашего внука.
Еще одна слеза скатилась по лицу Элси.
— Вы не имеете права у меня его отобрать. Это все, что у меня осталось… от него. Не имеете права.
— На что мы не имеем права? — спросил Бэзил, не такой проницательный, как его жена.
— Не имеете права отобрать моего ребенка и вырастить из него расфуфыренную даму или лощеного бездельника. Пожалуйста, уйдите отсюда, я не знаю, что мне делать.
— Вы очень несправедливы, что думаете о нас так плохо, — сказала Катарина Уэллвуд. — Чарльз-Карл просил позаботиться о вас, и именно это мы намерены сделать. Женщины в положении не должны работать на военных заводах, и мы… я хотела сказать «не позволим», но, конечно же, мы понимаем, что вы сама себе хозяйка. Но чего я хочу… больше всего на свете… это забрать вас и, конечно, Энн к нам в загородный дом. Чтобы вам было удобно. Карл написал нам… погодите, сейчас я прочитаю… «Она учится, чтобы стать учительницей, и, если бы я остался жив, я хотел бы, чтобы она могла учиться дальше и узнать больше».
Тут Элси заревела всерьез. Катарина сказала:
— Вы знаете… Элси, можно я буду называть вас Элси? — мы ведь его родители. Он наш сын… был нашим сыном. Мы не так уж не похожи. Пожалуйста, поезжайте с нами.
— Вы не понимаете. Ваши друзья будут презирать меня и смеяться над вами. Я не вашего класса и никогда не стану вашего класса, хоть как меня разоденьте.
— Я уже потеряла большинство друзей, они презирают меня и смеются надо мной, потому что я немка. Мы это переживем. Это и неважно, и ужасно. Вы — жена моего сына.
Бэзил странно хрюкнул. И сказал:
— Она права… гм… Элси. Она права. Мы будем счастливы, если вы поедете с нами. И очень несчастны… да, несчастны… если вы не поедете.
— Это будет неправильно.
— Хватит спорить, — сказал Бэзил.
Ему понравилось, что она спорила.
Вошла Энн — маленькая, худая, длинноногая, с лицом как болотный огонек. Глядя на нее, казалось, что ее можно сдуть одним дыханием или переломить пополам, как прутик. Она неуверенно улыбнулась.
— Это его папа и мама… Чарльза-Карла. Они зовут нас к себе.
Энн серьезно кивнула.
— Мы попробуем, Элси, — сказала Катарина. — А если вам будет плохо, мы придумаем что-нибудь другое.
54
Бельгийский пейзаж ровен и водянист: польдеры с хлебными и капустными полями, отвоеванные у Северного моря с помощью дамб. Дальше в глубь суши поля и дома покоятся на толстом слое глины. Там тоже есть вода — в прудах и рвах, в маленьких bekes (ручейках), в каналах. Здесь часто бывают паводки, потому что вода не может пройти через глину и уйти в землю. В 1914 году бельгийцы, после неожиданно яростного сопротивления наступающим немцам, отошли к побережью. Они открыли шлюзы и затопили землю, впустив в нее Северное море и создав непроходимые водные равнины между немцами и побережьем. Деревни вокруг песчаных холмистых гряд, которые армия могла использовать как высоты, были растерты в порошок артиллерийским огнем и втоптаны в глину колесами и копытами, ногами марширующих солдат и хромающих, скачущих на костылях, ползущих раненых. Летом 1917 года генерал Хейг приказал наступать. В начале осени, когда генералы согласились, что наступать следует через Пашендальскую гряду, шел дождь. Тучи обложили небо, и разведка с воздуха была невозможна. Холодный дождь хлестал горизонтально над плоскими полями и превращал глину в жидкую грязь, углубляя ее слой, так что передвигаться можно было только по «рубчатой дороге» — дощатому настилу поверх глины. Солдаты лежали, скрючившись, в ямах, частично заполненных водой: она была чудовищно холодная и все время поднималась. Трупы и куски трупов разлагались в окопах и рядом с ними, и запах разложения царил повсюду. С ним часто смешивался запах горчичного газа, которым были густо пропитаны шинели солдат и который вдыхали доктора и медсестры, отчего страдали их глаза, легкие и желудки, а волосы приобретали горчично-желтый цвет. Мирные польдеры стали болотами зловонной, густой, засасывающей глины, истоптанной и смешанной с костями, кровью и клочками мяса.
Герант и его артиллерийский расчет тащили пушку по «рубчатой дороге» меж обломанных, растресканных, обугленных пней, по грязи, через вонючие лужи. Герант получал письма из невообразимой Англии. Имогена писала, что Помона объявила о своей помолвке с одним из раненых, капитаном Перси Армитеджем, потерявшим обе ноги и большую часть зрения в одном глазу. «Она, кажется, искренне счастлива», — писала Имогена. Она приложила фотографию светленькой хорошенькой дочки, от которой, это бросалось в глаза, с неделикатной деликатностью отрезала изображение другого ребенка.
Герант не очень расстроился. Он плохо соображал среди грома пушек и разрывов снарядов, так как в последние сутки не спал вообще, а в предшествующие — только два часа. Солдаты — возможно, от усталости — не справились с мулом, который тащил свой конец пушечного лафета по доскам. Пушка опрокинулась. Герант оказался под ней и умер мгновенно — его вдавило в грязь. Никто не остановился, чтобы его выкопать. Был приказ — не останавливаться и не вытаскивать людей, упавших с дощатого настила.
По мере того как пейзаж все больше напоминал первородный хаос, люди становились отчаянней, дисциплинированней и изобретательней. По ночам колонны носильщиков доставляли на передовую боеприпасы, воду и горячую еду в теплоизолированных рюкзаках. Они напоминали Христиана из «Пути паломника», который с тяжелой ношей пробирался через Трясину отчаяния. Отряд мотоциклистов вез, балансируя, странный груз: плоские силуэты солдат в натуральную величину, раскрашенные в Англии бывшими расписчицами фарфора. У солдат были вполне натуральные лица, усы, очки и каски. Это были марионетки. За ними тащились по грязи плоские бечевки, за которые тянули солдаты-кукловоды, спрятанные в окопах и воронках. Кукольные солдаты потягивались, поворачивались, вставали и падали. Они изображали «китайские атаки»: их размещали сотнями под прикрытием дымовой завесы, чтобы немцы, стреляя в них, выдали свои позиции. Один человек, сидя в воронке, мог управлять четырьмя или пятью такими «солдатами».
Женский госпиталь в отеле «Кларидж» в Париже закрыли в 1915 году; женщин ненадолго перевели в Вимере, а потом обратно в Лондон, где они успешно организовали госпиталь еще большего размера на Энделл-стрит. Но кареты скорой помощи и полевой лазарет остались на фронте — за их содержание платили женские колледжи, и работали в них женщины. Дороти и Гризельда решили остаться. Дороти считала: чем скорее и лучше обработана рана, тем больше шансов на выживание и на то, что раненый сохранит руку или ногу, ступню или другую часть тела. Гризельда по-прежнему беседовала с ранеными. Как-то вечером женщины сидели в убежище и пили какао — насыщенный вкус густой жидкости воскрешал в памяти годы учебы, тишину библиотеки, розы в саду Ньюнэма не хуже, чем прустовские мадленки — детство в Камбрэ. Гризельда как бы между делом сказала, что пленные вон в той палатке — баварцы из армии принца Рупрехта. Она небрежно упомянула, что один из них, кажется, месяц назад видел Вольфганга Штерна живым и, насколько это возможно, невредимым.