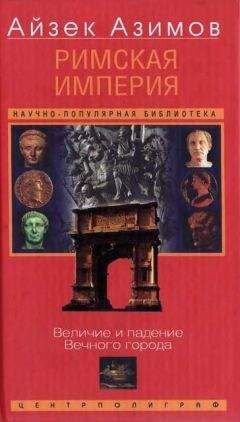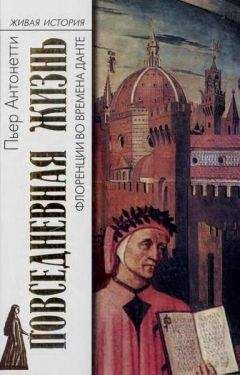Антония Байетт - Детская книга
Поэзия, думал Джулиан, — это вещество, которое выжимается из людей смертью, близостью смерти, страхом смерти, чужими смертями.
Он начал составлять список слов, более недействительных. Слава. Честь. Наследие. Радость.
Он расспрашивал других про названия окопов. И слышал в ответ: «Крысиная аллея», «Дань», «Дохлая корова». «Дохлый пес», «Дохлый гунн», «Падаль», «Фабрика черепов», «Райская роща», «Окоп Иуды», «Окоп Искариота». Было также множество религиозных названий: «Павел», «Тарс», «Лука», «Чудо». Многие окопы назывались по лондонским улицам и театрам, а еще больше — в честь женщин: «Окоп кокетки», «Девка», «Корсет». Джулиан записывал названия в книжку и уже начал нанизывать их в строку, но у него все время болела голова. Названия окопов сами складывались в пародии на детские песенки.
Пруха, непруха,
Пули над ухом
Как сержант под мухой
Жужжит шрапнель под брюхом…[121]
Это никуда не годилось. Но сама идея была перспективной. Руперт Брук погиб — умер год назад в Греции от воспаления на губе. Он писал о чаепитии в гранчестерской столовой, о меде или чем-то таком, немыслимом сейчас, а еще о том, что война стала освобождением от недожизни, от ее грязных и унылых песен, и люди бросаются в бой, «как пловцы ныряют в чистую воду».[122] Этих детей, думал Джулиан, кто-то околдовал и заморочил, словно некий гаммельнский крысолов сыграл на дудочке, и все они послушно бросились за ним под-землю. Немцы потопили «Лузитанию», и Чарльз Фроман, импресарио, поставивший «Питера Пэна», утонул, не теряя храброго достоинства и, видимо, повторяя про себя бессмертную строку, благоразумно вырезанную из постановок военного времени: «Умереть — это ужасно большое приключение».
Оказалось, что слова о грязи, холоде, мокром снеге, вшах и крысах близки подлинному духу английского языка. Надо будет использовать «черт», «говно» и прочие словечки, любимые мальчиками в школах и вытесненные из сознания в невообразимой теперь светской жизни респектабельной Англии. «Черви» — хорошее слово. Кто-то предложил название: «Воронка шестерки».
Джулиан оправился и вернулся к себе в часть. Они пошли занимать отбитый у немцев Швабский редут. Здесь были глубокие немецкие землянки, мощные укрепления: «Швабский редут», «Лейпциг», «Барахло» и «Козел» (Feste Staufen и Feste Zollern), «Чудотворение» (Wundtwerk) — вот о чем следовало бы писать стихи. Джулиан спустился-под-землю и нашел подземную дверку в стене. Она вела в темные коридоры, набитые ящиками боеприпасов и снаряжения, а за ними оказался проход в две вертикальные шахты с воротами и ведрами. Дна было не видно: шахты словно уходили в бесконечность. Джулиан шел между штабелями ящиков с бомбами и тушенкой, с черными и золотыми шлемами, с кожаными масками респираторов; все это на миг напомнило ему хранилища в подвале Южно-Кенсингтонского Музея с их порядком и беспорядком.
Он дошел до просторного подземного помещения, где кучами лежали толстые серые шинели; их затхлый запах был частью всепроникающего запаха этих окопов. Вдоль стен выстроились зеркала в позолоченных рамах. Их, должно быть, вынесли из дворца, ныне лежавшего в руинах. Еще в этой комнате были книги — в вертикально поставленных ящиках вместо шкафов. Джулиан взял «Сказки братьев Гримм» для Гризельды: ей понравится рассказ о том, как он нашел эту книгу в подземном зале, полном зеркал. Тут он увидел, что в углу тихо стоит человек — худой, мрачный, средних лет, со шрамом на лице и усталыми глазами. Джулиан поднял руку в приветствии; другой тоже поднял руку, и Джулиан понял, что не узнал самого себя. Он заметил другой выход из помещения, приоткрыл дверь и обнаружил, что проход забит телом совершенно мертвого и разлагающегося немца. Джулиан отступил и вернулся наверх.
Через несколько дней его послали ночью с отрядом атаковать немецкую огневую точку. Они залегли в воронке под равномерное уханье бомб, и Джулиан почувствовал, как треснула кость ноги. Он попытался встать и не смог. Солдаты перетащили его, хромающего и падающего, в другую воронку, а потом обратно к своим.
На этот раз у него оказалось «тыловое» ранение, то есть такое, с которым отправляли в тыл. Его перевезли санитарным транспортом в Англию вместе с ходячими ранеными Ступни были раздроблены, но он не почувствовал этого сразу из-за треснувшей большеберцовой кости. В конце концов британские хирурги не смогли спасти одну ступню и отняли ее. Месяцы спустя Джулиан прихромал к дому в Челси, где к двери подбежали две маленькие девочки и чуть не сбили его с ног. Он сильно расстроился, когда Имогена и Флоренция отчаянно зарыдали. В доме восхитительно пахло — поджаренным хлебом, поджаренным кофе, лилиями в вазе, лавандой и, как понял Джулиан, наклонясь поцеловать сводную сестру и племянницу, чистыми волосами и вымытым телом.
Ему снилось, что его засыпало заживо в окопе, и он не может освободиться от неуклонно нарастающей тяжести земли. Ему снилось все, что он запрятал подальше и запретил себе вспоминать. Флоренция подавала ему горячие тарталетки с абрикосами и китайский чай, пахнущий жасмином и своим собственным бледным, загадочным, чистым запахом, в китайских фарфоровых чашечках. Домашние сажали Джулиана в кресло и подставляли скамеечку под больную ногу, и в глазах у них все время стояли слезы.
Из всех ясноглазых мальчиков «Жабьей просеки» домой вернулся только Флориан. Филлис приготовила его любимую еду — колбаски с пряностями, картофельное пюре и «королеву пудингов». Олив твердила себе, что должна его любить, упорно и сильно, потому что он вернулся, а ее сыновья — нет. Она подумала, что стоит перед фактом: возвращение сына, который не был ее сыном, может обозлить ее. Но она решительно задвинула эту мысль подальше. Она пропустила стаканчик виски до прибытия пролетки со станции.
Флориан шел сам. Выглядел он ужасно. Он был истощен и сильно хромал; кожа собралась складками, покрылась пятнами и шрамами. Одно веко обвисло. Золотые кудри, сбритые во время призыва, отросли неравномерно, клоками, а отросшие выглядели ненатуральными, каким-то эрзацем. Хуже всего была тяжелая, болезненная, громкая одышка от британского отравляющего газа, отнесенного ветром назад на британские окопы.
Филлис и Олив через силу поцеловали его. Он чуть заметно дернулся. Хамфри положил руку ему на плечо и сказал:
— Идем, сын, ты дома.
Флориану оказалось не о чем говорить с домашними. Он часами просиживал у окна, глядя в сад. Филлис изо всех сил старалась его любить. Они оба — дети Виолетты, оба молча злились на то, что ее смерть прошла так незаметно, была поглощена скорбью по Тому, так же как ее жизнь была поглощена жизнью Олив. Но ни Флориан, ни Филлис не любили разговоров о таких вещах. Ни он, ни она никогда не говорили о чувствах. Филлис один раз попыталась, неловко, запинаясь, не зная, как лучше сказать — «Виолетта» или «мама», и Флориан продемонстрировал чувства — взрыв мрачной ярости. Филлис приносила ему небольшие дары — пирожные, сладости, и он их жадно пожирал.
Днем он только сидел. Ночью он ходил. Тяжелый стук хромой ноги и зловещее ровное одышливое сипение слышалось на лестницах и в коридорах.
Как-то ночью Олив проснулась, когда он проходил мимо ее двери, и ощутила чистую ненависть. Жить с ним было все равно что с чудовищем, подменышем, демоном Потом она возненавидела себя еще сильнее, чем его. Потом отправилась за виски, стараясь не столкнуться с фронтовиком — несложная задача, потому что было слышно, где он бродит.
Они заметили, что он вырезает объявления из газет. Однажды он сказал, что ему предложили должность помощника учителя в школе Бедейлз, и он согласился. С мрачной, печальной ухмылкой он сказал, что умеет ставить палатки, разводить костры и всякое такое.
Домашние сказали, что он будет приезжать домой повидаться, на каникулы, и он ответил: «Да, наверно».
Филлис подумала: почему бы ей самой не уехать? И решила, что, может быть, уедет. Может быть.
Из «Поэмы призыва»
и других стихотворений Джулиана Кейна
ЛЕС
Ты в Зазеркалье, Алиса, нравится тебе здесь?
Мир поделен на квадраты — шахматная доска,
Встречный сидит с кальяном: живая спесь.
Странно услышать советы от червяка.
Логику режут на части, что твой пирог,
Розы и яйца спорят до хрипоты:
«Сколько, скажи-ка, у этой солонки ног?» —
Окорок оскорблен, что к нему на «ты».
В небе высоком плывут и плывут облака,
Спят королевы, как выводок робких птах,
Спят короли, их мечтаний несет река.
Видят серьезных устриц на берегах,
Лесом поросших, где лета горят костры,
Никто не стреляет, и звери всегда добры.
Прыгай, Алиса, прыгай в другой квадрат —
Заросли и канавы участки разъединят.
Прыгай, Алиса, прыгай, чего стоять:
Действовать легче, гораздо легче —
Чем просто ждать.
Кошки и мышки, мушки и пушки — вот наша жизнь,
Верным вассалам время пришло воевать.
Главное, помнить — если в нору летишь —
Надо отвлечься, отвлечься: думать и рассуждать.
Как по-английски ты рассудительна и холодна:
Слово твое усмиряет тревоги и исцеляет боль:
Видишь, Алиса, видишь: стоит стена Верных вассалов.
Воинственных мальчиков — перед тобой.
Глупые воины не умирают,
Глупые воины в пекло шагают:
Рухнули, Встали. И вновь упадут:
Спать с наступлением темноты.
Красные розы на белых идут:
Правила в схватках они блюдут.
Если успешно закончится бой,
Джема и чаю получит любой —
От Провидения дар благой —
Получим и я, и ты.
Да, Провиденье добро к дуракам,
Лес же ко всем жесток:
Коль заблудился, ни тут, ни там
Тебе не найти дорог:
Небо чернеет от воронья,
Ветер деревья гнет.
Буря приходит, грозой гремя,
Воет, кричит, ревет.
Красное с черным сплавит огонь.
Красное с черным. Ненависть. Боль.
Я видел лес, смешенье всех стихий:
В огонь горячий превратился воздух,
Земля текла расплавленным потоком,
Деревья, словно спички, загорались.
Огонь не иссякал.
Ни взора и ни слуха
Он не щадил.
Людей смешали с грязью.
Они и были грязью, пылью, прахом:
Все обратилось в прах, все истекало кровью
Под жалкими обрубками деревьев.
Живой не мог стоять — и по колено
Тонул в крови своих погибших братьев.
Мы шли по мертвым лицам.
Падали бессильно
Поверх уже упавших. Все смешалось:
Плоть, дерево, металл жестокий.
Утрачена опора, смысл жизни:
Ни света нет, ни дня, ни горизонта —
Все поглотила серость.
Кровь на сером Лице товарища.
На серо-бурых листьях.
В другом лесу
Идет Алиса с молодым оленем.
Их не зовут никак:
Ни девушка, ни зверь, ни что живое.
Растения растут.
Летают твари.
Трепещут крылья.
Все без изменений.
Здесь хорошо. Здесь безразлично. Тихо.
Здесь царствует блаженное безделье,
Которое разрушил Змей коварный
В саду Эдемском, где Адам
Именовал всех тварей сущих, а затем…
Затем вкусил Греха и устыдился.
В Тьепвале между временем и местом
Шум страшный превратился в тишину,
Боль страшная — в забвенье. Мне была
Дарована немыслимая милость —
Не зная, знать. Ни как меня зовут,
Ни имена всех тварей в этой тьме.
Я безразлично пялился на пни.
Обрубки дерева, металла, щепок, плоти —
Слились в одно. Сосед хрипит в крови.
Он умер. Смерть со мною рядом ходит.
ПЕРЕКЛИЧКА