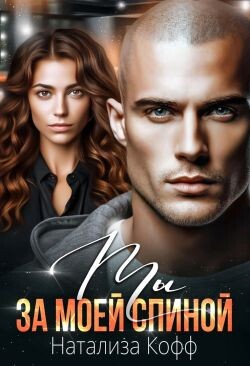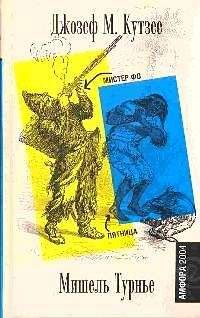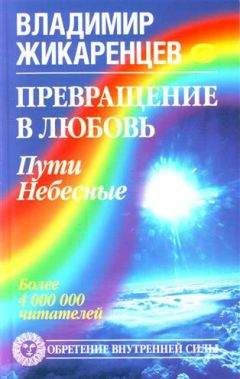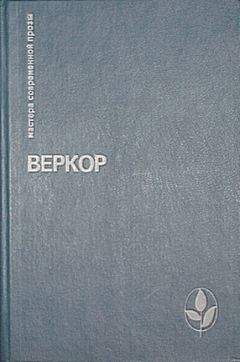Молчание Шахерезады - Суман Дефне
Цыганка заходилась в звонком хохоте, отражавшемся от мраморных стен кухни и заставлявшем нас вздрагивать. Сюмбюль подавала Ясемин знаки, мол, что ты, здесь ведь тетушка Макбуле. Макбуле-ханым была старшей сестрой Мустафы-эфенди, свекра Сюмбюль. Я робела перед ней. Ни разу я не видела, чтобы она улыбнулась. Она всегда повязывала голову черным платком с краями, обшитыми кружевом, и целыми днями перебирала четки.
– Стоит только, сладкая моя, задурманить голову самой лучшей травой, и любые руки, что касаются твоего тела, покажутся перышком, а по венам потечет не кровь, а шербет, – продолжала Ясемин. – А уж у индуса этого кожа была, честное слово, точно бархат и цвета молочного шоколада. Плутовка Эдит пойти с ним под венец не захотела, но из постели своей не выпустила. А как, думаете, она смогла сохранить свою кукольную красоту? Муж ведь все соки из женщины вытягивает. И ребенок. Эдит это прекрасно знала.
Пальцы Ясемин, пока она говорила, с тоской блуждали по покрытым старческими пятнами щекам, словно пытались нащупать пылавшее в них когда-то пламя, а Сюмбюль опускала голову и с особым вниманием принималась перебирать фасоль или же бралась за лежавшее на коленях рукоделие. А вот Мюжгян, слушая цыганку, никакого неудобства не испытывала. Отправив своих дочек-подростков в сад присматривать за сыновьями Сюмбюль, она давала себе волю и, не обращая внимания на покрасневшую до кончиков ушей невестку, – ей-богу, тетушка же совсем глухая! – выпытывала у торговки разные подробности.
И как это у Эдит получалось не забеременеть? Она что, бесплодная была? А правда, что Авинаш каждое утро в своей комнате делал разные трюки, как индийские факиры? Интересно, а это помогало сохранению семени? Он действительно носил на своем достоинстве сережку с изумрудом? Как же он занимался этим с сережкой-то?
Ох, неужели она не понимала, что Сюмбюль смущало не присутствие Макбуле-ханым, а охватывавшее меня возбуждение?
– Ах, ягодка моя, про сережку с изумрудом мне ничего не известно, но вот ту траву, что помогает от ребенка избавиться, Эдит у меня не просила ни разу. Большего сказать не могу. А ведь в то время богатенькие европейки чаще всего ко мне именно за этим и обращались. Сколько раз я к ним бегала! Сами понимаете, дело-то срочное. А они без всякого стыда задирали юбки по пояс и плакались, мол, дорогая, принеси мне снова того эликсира. Одно полнолуние прошло – они снова просят. Плачут, стонут своими тонкими голосками. Это я про других женщин, не про Эдит. У Эдит-то голос был точно труба. Может, у кого еще и есть такой, но мне слышать не доводилось.
По-кошачьи зеленые глаза остановились на кольце с сапфиром на моей руке.
– Что ты так на меня смотришь? – без всякого перерыва продолжила Ясемин. – Хочешь знать, что в итоге случилось с ними? Эдит укатила в Париж с одним-единственным чемоданчиком. Все ее состояние зятек прибрал к рукам. Да только все его компании, все облигации – все сгорело. А мать… Мать ее сама навстречу собственной смерти выбежала. Сын потом даже пепла от нее не нашел. Ну, это расплата за ее грехи. Еще бы! Я вам так скажу: все те беды, которые в итоге привели ее к смерти, начались в то далекое время, когда она приписала отцовство нагулянного ребенка собственному мужу. Да и после она тоже дел натворила. Кто знает, тот поймет, не так ли, дорогая моя?
Но я тогда ничего еще не понимала. Я и представить не могла, что имею какое-то отношение к этим богачам. Истории Ясемин я слушала, как слушают сказки, и меня волновали только мои собственные тайны. А Ясемин, поглядывая на кольцо, которое надела мне на палец мама, когда мы обнялись в последний раз, настаивала: «Дай-ка я тебе погадаю, посмотрю, что тебя так тревожит». Когда она так говорила, меня окутывал страх. «Может, эта цыганка знала меня еще до того, как я стала Шахерезадой? – думала я. – Может, ей известна судьба моих родителей? Знают ли они, что я жива, ищут ли они меня?»
Ответы на эти вопросы я получила лишь годы спустя, когда Ясемин указала Авинашу Пиллаи дорогу ко мне. Бывший шпион, теперь уже старик со спутанной бородой и всклокоченными волосами, от чьего былого обаяния не осталось и следа, бродил по улицам Измира – города, где теперь жили люди, говорящие на одном языке, где вместо жасмина пахло тухлыми яйцами; города, где вместе с названиями улиц исчезло и прошлое.
Ясемин наткнулась на Авинаша в одном безлюдном проходе в районе Тилькилик. Безумец, даже на склоне лет, так и не смог забыть Эдит. В нашу с Авинашем последнюю встречу я соединила кусочки мозаики из рассказов цыганки и поняла, какое место занимаю в получившейся картине. И та история, которую все повторял и повторял завладевший Сюмбюль призрак, была вовсе не бредом сумасшедшего, как утверждал доктор по нервным недугам, а чистой правдой.
Но поняла я это слишком поздно.
Когда Авинаш поведал мне эту историю, с того утра, когда мы нашли голое тело Сюмбюль под потолком, прошло полвека. На месте особняков с садами выросли многоэтажные дома, а задувавший в окна ветер пах не жасмином, а углем. Даже темные ночи, когда я пробиралась под полог позолоченной кровати в комнате в конце коридора, и те уже канули в прошлое, и безмолвная наложница Шахерезада была оставлена в башне особняка, обреченная на одиночество длиною в век.
Я расскажу,
поведаю обо всем.
Да заберет меня смерть
в этой башне полуразрушенного особняка.
II. Дождь из лягушек
Псомалани, 1919 год
– Плывут! Плывут! Английский консул объявил. На Кордоне уже даже лавочки закрывать начали! Если нам не верите, спуститесь и спросите сами. Рыбаки, плывшие мимо Лесбоса, видели корабли. Некоторые уже сейчас сидят на мешках и узлах. Завтра утром, еще затемно, корабли войдут в залив! Теперь уж точно!
Когда Ставрос с другими местными мальчишками прибежал, запыхавшись, на Псомалани, Хлебную площадь, Панайота с подружками прыгала через скакалку перед низкой стеной возле полицейского участка. По мальчишкам видно было, что они мчались со всех ног от самой набережной. Язык наружу, щеки розовые, в глазах – безумный огонек. Панайота взглянула украдкой на Ставроса. С висков на раскрасневшиеся щеки у него стекали струйки пота.
– Слышали? Плывут! – прокричал он недавно сломавшимся голосом.
А мальчишки позади него, как попугаи, повторяли:
– Плывут! Плывут! Слышали? Плывут! Как пить дать – завтра будут здесь!
Последнюю фразу они прокричали по-турецки. А затем принялись перечислять названия греческих броненосцев, которые знали с детства наизусть, как какую-нибудь считалку.
– Патрис, Темистоклис, Атромитос, Сириа… Они уже у Лесбоса!
Солнце уже скрылось, и только зеленые луга вдали, где проходила железная дорога, еще оставались освещенными. Мужчины в кофейне, увлеченные игрой в кости, мальчишек даже не заметили. Женщины, которые по своему обыкновению беседовали друг с другом, высунувшись из окон, тоже не прервали своей болтовни. Лишь беззубые старухи, перебиравшие чечевицу сидя на вынесенных из дома стульях, поцокали да головой покачали. Все вокруг было в пыли, но весь квартал окутывал свежий запах зацветших лимонов. Однако ж мать Нико внесла свою нотку: выложила перед дверью рыбные очистки, и в тот же миг крыши ожили – все кошки, с обеда гревшиеся на черепице, помчались на улицу Менекше.
Даже через разделявшее их расстояние Панайота чувствовала исходивший от кожи Ставроса резкий запах соли и пота, и от этого запаха в животе у нее как будто кувыркался котенок. Одет Ставрос был в голубую рубашку с коротким рукавом, и руки его, хотя всего май был, уже загорели. А волосы ближе к кончикам побелели – наверное, от морской соли. Значит, они опять вдоволь наплавались с ребятами. В сердце у Панайоты заныла тоска по всему тому, что она никогда не делала и вряд ли сделает в этой жизни, так как родилась женщиной. До чего, должно быть, прекрасно запрыгнуть в трамвай и ехать куда глаза глядят, а еще лучше залезть в море на первом попавшемся пляже и без устали плыть к горизонту.