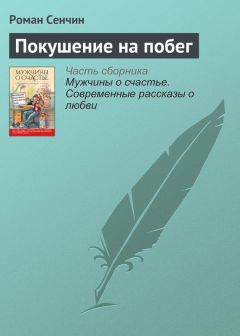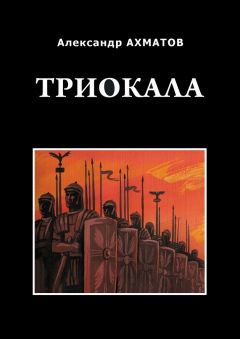Александр Ахматов - Хроника времен Гая Мария, или Беглянка из Рима
— А что же негодяй Требаций? — спросил Дентикул. — Как ему удалось избежать справедливого возмездия?
— Он спасся, потому что действовал как истый разбойник. Если сравнить с ним беднягу Гракха, то последний, убежав за Тибр, тщетно упрашивал всех встречных дать ему коня, пока его и Эвпора не догнали и не убили преследователи. А Требаций и его дружки пробились на конный двор, что у Раудускуланских ворот, избили трактирщика и его рабов, потом захватили лошадей и умчались в Остию…
— Теперь Требаций и другие римские изгнанники обосновалась на Крите, построили там крепость и принимают к себе бродяг со всего света, — сказал Либон.
— Житья не стало от них, — пробурчал Сильван. — Дорожает зерно. А знаете, почему? Пираты то и дело перехватывают хлебные грузы. Переезды по морю сделались опасными…
— О чем только думают в сенате! — воскликнул Приск. — Неужели могущественный Рим не в состоянии справиться с этим разбойничьим отребьем?
— Оратор Марк Антоний[227] обещает очистить море от пиратов, если его изберут претором и предоставят особые полномочия, — сообщил Либон.
— Пока Италии угрожают кимвры, ни о какой войне с пиратами не может быть и речи, — возразил Минуций.
— О, ради всех бессмертных богов! — протестующе поднял руки Волкаций. — Ни слова больше о кимврах! Только настроение себе испортим, а заодно и аппетит…
Волкаций щелкнул пальцами и прикрикнул на рабов:
— Эй, лентяи! Забыли о своих обязанностях? Почему в кубках пусто?
В то же самое время он сделал знак сидевшему в дальнем углу флейтисту, и вскоре по триклинию разлились нежные звуки флейты.
Гости повеселели и в очередной раз осушили свои кубки.
Немного погодя в комнату вошли три молоденькие прислужницы в коротких до неприличия греческих хитонах с многочисленными мелко заглаженными складками. В руках девушки держали подносы, на которых дымились горячие блюда.
Девушки были прехорошенькие.
Сотрапезники разом прекратили свои разговоры и впились взорами в полуодетых красавиц, в то время как они легко и проворно расставляли на столе блюда с кушаньями. Всем собравшимся хорошо известно было пристрастие хозяина дома к красивым рабыням, которых он охотно покупал, не жалея денег. И это было неудивительно. Волкаций особенно не скрывал, что занимается сводничеством, не видя в этом ничего предосудительного. В числе нескольких принадлежавших ему доходных домов один был известен на весь город как перворазрядный лупанар[228], где развлекались очень богатые люди.
Самой старшей из трех девушек не было и двадцати лет. Особенно бросалась в глаза необычная красота одной из них, белокурой и светлокожей. Ростом она была чуть повыше остальных и сложена безупречно. Короткий голубой хитон, скрепленный на ее левом плече серебряной фибулой, оставлял почти открытой молодую прелестную грудь и едва прикрывал стройные бедра. Золотистый цвет волос и нежная белизна кожи выдавали ее кельтское или германское происхождение, но в мягких и правильных чертах юной красавицы больше было, пожалуй, от галлогречанки, чем от уроженки суровых заальпийских лесов. Ее большие темно-серые глаза, опушенные стрелами длинных ресниц, таили в себе тот особенный родниковый холодок, который так присущ был малоазийским галаткам. На нее чаще, чем на других девушек, тоже очень привлекательных, обращались чувственные взгляды большинства гостей.
— Откуда у тебя такая? — спросил Клодий, повернувшись к Волкацию.
— Ты имеешь в виду вон ту, золотоволосую? — кивнул Волкаций в сторону девушек. — Правда, хороша? Досталась мне почти что даром… И знаешь, от кого? От Аврелия, гладиаторского ланисты. Ты с ним знаком. Он сам предложил мне ее взамен своего проигрыша.
— Она доморожденная? — осведомился Клодий.
— Аврелий рассказал мне, что мать ее родом была из Галлогреции[229] и поначалу принадлежала сенатору Ювентию Тальне, ныне покойному. Видимо, мать в его честь назвала дочку Ювентиной…
— Ты хочешь сказать, что сенатор больше всех постарался, чтобы эта красотка появилась на свет?
— Вполне возможно.
— Она говорит по-латыни?
— Не хуже, чем законнорожденная дочь сенатора. Кстати, греческий она знает тоже благодаря матери, которая, видимо, была более гречанка, чем галатка. Не хочешь ли послушать, как она декламирует греческие стихи?
— Ну, если голос у нее такой же красивый, как и она сама.
Волкаций поднял вверх руку и щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание молодых рабынь, которые, сделав свое дело, уже собирались покинуть триклиний.
— Вы обе можете идти, — махнул он рукой двум темноволосым девушкам. — А ты, Ювентина, отдай им свой поднос и подойди сюда.
Глава шестая
НЕВОЛЬНИЦА
— Ну-ка, Ювентина, прочти нам что-нибудь по-гречески, — обратился к девушке Волкаций, когда она подошла к нему. — В прошлый раз ты читала гостям стихи этой поэтессы… как ее…
— Сапфо[230], — напомнила Ювентина, с усмешкой взглянув на господина.
— Ну, да, Сапфо… конечно, Сапфо. Надо признать, это греческое имя нелегко выговорить… Итак, прочти нам… немного, всего несколько строк, чтобы вот этот господин мог оценить твой голос и твое греческое произношение.
Ювентина вздохнула и прочла нараспев, стараясь четко озвучивать окончания слов:
Я негу люблю,
Юность люблю,
Радость люблю
И солнце.
Жребий мой — быть
В солнечный свет
И в красоту
Влюбленной.
Я роскошь люблю;
Блеск, красота,
Словно сияние солнца,
Чаруют меня…
Кроме Минуция, почти в совершенстве изучившего греческий язык еще в ту пору, когда он со всем жаром юности был влюблен в гречанку Никтимену, а также Клодия, который уже много лет занимался откупными делами в Сицилии[231] и, хотя не без труда, изъяснялся на языке эллинов, больше никто из присутствующих не понял и нескольких слов, произнесенных девушкой. Зато, пока она декламировала строки великой уроженки Лесбоса, все имели возможность разглядеть, что зубы у нее один к одному — ровные и белые, как жемчужины.
— Если ты не против, — сказал Клодий, обратившись к Волкацию, — я поупражняюсь с ней по-гречески.
— О, сколько угодно!
И Клодий заговорил с девушкой, нещадно коверкая каждое греческое слово.
— Твоя мать была галаткой? — спросил публикан, бесцеремонным взглядом ощупывая всю ее фигуру.
— Да, господин, — коротко ответила Ювентина, тоже переходя на греческий язык.
— Ты умеешь читать, писать?
— Могу читать, но писать не пробовала… разве что палочкой на песке.
— Но ты девушка способная. Если умеешь читать, то и писать научишься. Главное, ты свободно говоришь на латыни и греческом. Это как раз то, что мне нужно.
Девушка взглянула на публикана с беспокойством.
— Ты… собираешься купить меня? — с запинкой спросила она.
— А что тебя смущает? Разве я хуже твоего плешивого господина? Или ты его так любишь, что тебе не хочется с ним расставаться?
Ювентина потупилась.
— Я слышала, что жена твоя очень дурно обращается с рабынями, — произнесла она сквозь зубы.
— Откуда тебе это известно? — нахмурился Клодий.
— Мне рассказала об этом одна из служанок твоей жены. Я случайно познакомилась с ней в Паллацинских банях и обратила внимание на то, что грудь девушки исколота булавками — это твоя жена истязала ее за ничтожную провинность. Девушка также рассказывала, что госпожа то и дело приказывает сечь рабынь розгами и даже подвешивать на ночь к кресту…
— Меня это не касается, — прервал публикан Ювентину. — Я давно уже не вмешиваюсь в дела своей жены, а ее не интересуют мои. Можешь быть спокойна, жена и знать о тебе ничего не будет. Я отправлю тебя в Сицилию. Не пожалеешь. Там прекрасный климат, море. Тепло даже зимой. Не то, что в Риме с его наводнениями и лихорадкой…
— Ну, что? — спросил Волкаций, прервав свой разговор с Сильваном и поворачиваясь к Клодию. — Как ты ее находишь?
— Ты прав, она почти настоящая гречанка.
— Что за грудь! Что за ножки! — со вздохом сказал Сильван, не спуская с девушки пожирающего взгляда.
Волкаций жестом руки разрешил Ювентине удалиться, и та поспешила к дверям триклиния.
Клодий проводил ее стройную фигуру глазами коршуна, упустившего добычу.
— Бедный Клодий, — язвительно произнес Сильван. — Эта девчонка, кажется, лишила тебя покоя. А ты попроси хозяина — он уступит ее тебе на нынешнюю ночь, — подмигнул он Волкацию.
Но тот строго его осек:
— Не говори лишнего, Сильван. Сам-то ты прекрасно знаешь, что Ювентина у меня на особом счету — и ни тебе, сколько бы ты ни клянчил, ни кому-либо другому я ее не отдам… Эта девушка очень тонкая штучка, — продолжал он, обращаясь к Клодию. — С виду она скромна и послушна, но вполне способна закатить скандал, подобный тому, каким ославила в прошлом году прежнего хозяина…