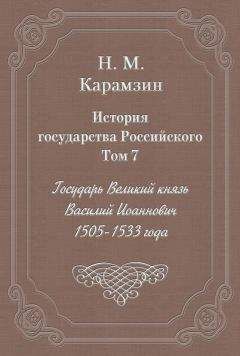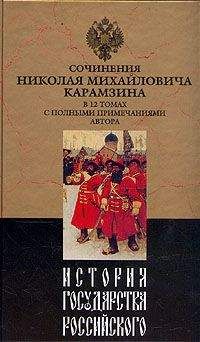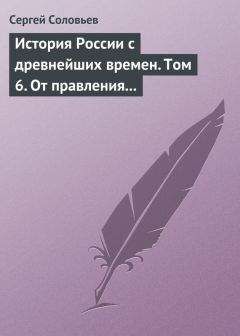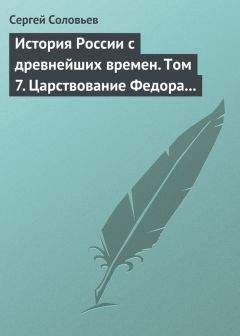Виктор Шкловский - Житие архиерейского служки
Служба, стихи и санки…
Вязмитинов, в чин Добрынина не произведя, уехал в Рыльск к отцу гостить.
Остался Гавриил один в канцелярии; канцелярия была в избе, хозяин которой был переименован уже в канцелярского служителя.
В темной каморке, где стоял стол канцелярский, бегали еще не переименованные черные тараканы.
Замазавши и заклеивши все щели, особенно вокруг косяков, и забелив их, стал работать в этом приюте правосудия Добрынин не очень радостно.
В канцелярии был сундук, в сундуке – дела, не внесенные в опись.
Делать, в сущности говоря, было нечего. А у князя Горчакова Параша хорошо пела, гусляр играл, и первый раз в жизни Добрынин пел для себя, правда, за чужое, даровое вино.
Сюда часто приходил господин Шпынев, ученик славного Ломоносова. Он был человек необычной образованности.
И сам Добрынин различал ямбы от хореев, знал, что такое рифма долгая, богатая.
И только неполное знание мифологии удерживало его от сочинительства.
Но тут помогал приятелям славный мифологический словарь.
Шпынев же писал стихи без мифологии.
Здесь сочинялись стихи сатирические на разного рода людей в городе.
Например, на господина Хамкина было написано стихотворение:
Хозяин здесь живет пространныя гортани,
Во храме божьем, что ревет, без всякой дани.
Господин Хамкин на эти стихи рассердился и считал их негодными.
Косился на приятелей и воевода Малеев.
Предложено было Добрынину являться в общую канцелярию, зауряд со всеми, и, может быть, совсем бы погиб господин Добрынин, – потому что именовали уже его господином, – если бы он не читал книгу, называемую «Светская школа, или отеческое наставление сыну об обхождении в свете».
Книжка была интересная. Подарил ее Добрынину Шпынев.
А Горчаков с обидностью, когда увидел Парашку, на Добрынина глядящую, в книге этой ногтем отметил речь Аристипа:
«Ты сам знаешь, что шляхетство человеку высокие мысли дает и ни до каких подлых дел его не допускает. А все первые дела камерной службы и в глазах у дворян презренны. Всем высшим надобно кланяться, а перед знатными купцами ползать, а притом бы к знатным людям ход иметь, у которых камерные служители через лакеев, женщин и через людей боярских вкрадываются, а дворянству все сие подло, мерзостно и противно».
И далее:
«Кто в камерный чин из бедности, да и подлого рода пойдет, то во всякие, а особенно пользу приносящие, дела без стыда и боязливости вступает, зная то, что ему хуже и беднее быть невозможно».
Прослушав эти слова, Добрынин вынул из кармана случайно унесенную от епископа своего табакерку, поиграл ею в рассеянности и произнес бледным голосом:
– Да, просвещение…
Придя домой, Добрынин сел писать стихи и писал до утра, а утром увидал с изумлением, что стихи написаны им не на Горчакова, а на Шпынева.
Стихи эти были забыты им как бы случайно на столе в канцелярии общей.
Прокурор прочел их без рассеянности.
А вечером Добрынин был уже приглашен в компанию первых чиновников города, и дан ему был вхожий стакан, и тут он стихи прочел, и все много смеялись.
А стихи эти были следующие:
Что чадна голова, глаза, лицо окисли,
Что брюхо на ноги, чело на нос обвисли,
В смердячей хижине гнилой свой труп скрывает,
С похмелья весь дрожит, свирепо ртом зевает,
То славный муж Шпынев, что всем чертит стихи,
Не зря на свой порок и пьяные грехи.
С тех пор участь Добрынина поправилась, он был даже уволен от обязательного сидения в канцелярии, но позволение это употреблял с умеренностью.
К князю Добрынин продолжал ходить, но принимали его уже с умеренностью и холодностью.
По первому зимнему пути вернулся из отпуска и благодетель Вязмитинов.
Вернувшись, позвал он к себе Добрынина и сказал:
– Много ли у тебя в Севске денег оставлено?
– С тысячу рублей. Но получить их одним разом трудно, потому что розданы они под проценты.
– Привез бы ты их сюда, здесь дадут тройные проценты. Я тебе это устрою.
Добрынин сообразил, что, значит, проценты будут четверные, и сказал:
– Лучше мне было в Севске показаться с новым чином.
И на двадцать шестом году жизни своей был объявлен в приказе Добрынин коллежским регистратором и смог вдеть наконец шпагу в карман своего кафтана.
Даже Рогачев как будто изменил весь свой вид.
А и чин-то был весь – провинциальный протоколист.
Получил Добрынин приказание заехать из Севска в Рыльск, к родственникам Вязмитинова, и твердо дал себе слово все поручения выполнить.
И вот опять Севск и река Сева под голубым льдом. И вот обе части города – и городская и Замарицкая, – а вон и река Марица. Зимой она кажется оврагом.
Вот дымится паром мучная мельница на плотине.
– Здравствуй, Севск! А раньше я тебя и не видел.
Питейных домов десять. Гостиный ряд, лавок сорок три, церкви три городские. А вот Троицкий девичий монастырь о четырех башнях, и в нем две каменных церкви и семнадцать монахинь.
Хорошо, что не остался Добрынин в монастыре.
А вот и фабрички краснотерочные, и вот, наконец, Спасский монастырь и каменная ограда, и две церкви – одна каменная, а другая деревянная, та самая, из которой таскал Добрынин щепки.
Архиерея в монастыре не было. Архиерей был в Орле.
Мать свою Добрынин посетил и при ней проделывал шпагой различные движения, а она ахала радостно.
Прочие на шпагу менее радовались, и секретари бурчали вполголоса, что все наместнические чины не настоящие, а только зауряд-чины.
Но мудрость уже гнездилась в сердце Добрынина.
Недаром прочел он уже и книжку «Светская школа», и «Грациан, придворный человек», и многие другие полезные книги.
В Рыльске купил он за пять империалов модные санки. А пять империалов были в то время деньги большие.
Санки были лакированные по светло-зеленой краске, в приличных местах выложены бронзой; подушки триповые и полость на медведях.
Саночки эти Добрынин поставил на другие, рабочие санки, чтобы в дороге их не разбить. А в санки поставил ящики с английским пивом и ящики завернул в сено, помня судьбу могилевских вишен.
А деньги спрятал, так как и сам умел брать четверные проценты.
Дорога была хорошая, гладкая. Небо голубое, шуба теплая. До Рогачева доехали благополучно.
Иван Козьмич Вязмитинов принял господина Добрынина с интересом.
И спросил сразу:
– Деньги привез?
Протоколист поклонился по-граждански и ответил:
– За краткостью и внезапностью времени сдали мне только триста рублей, которые при сем и прилагаю.
Вязмитинов сделал невеселое лицо.
Добрынин поклонился с грациозностью и прибавил:
– В награду этого от меня недостатка привез я для вас санки подарочные.
– Езди, братец, сам, – сказал Вязмитинов сурово.
– Прошу посмотреть, я их приказал поставить здесь, в больших сенях.
Вышли в сени.
Улыбка непрошеная раздвинула почтенные губы благодетеля.
Санки были двухместные, а третьему на запятах, и так уютны, и так легки.
– Нужно будет, – сказал Вязмитинов, – поискать для таких санок у купцов рысака.
И открыл медвежью полость, приговаривая:
– Ну и богаты! А здесь что за сено?
– Это чтобы не побились бутылки с английским пивом.
– Ну, братец, ты великий мастер ездить в отпуска, чинок ты износишь быстро, быть тебе когда-нибудь при первой звезде.
К звездам
Весною приехал Луцевин из Могилева. И был Луцевин уже секретарем.
А Добрынин был только протоколистом. Даже небо слегка над ним пожелтело.
А между тем наступало время открытия могилевского наместничества.
Не спал Добрынин по ночам и то вздувал, то тушил огонь. И с ним самим чуть не начинались припадки лунатические.
«Вот, – думал он, – и санки, и не я в них прокатился».
Но благодарность жила в тучном сердце господина Вязмитинова.
На просьбу об отпуске в Могилев не только он отпуск дал, но дал два письма: одно – к полковнику Каховскому, а другое – к брату своему, к самому генералу-адъютанту Вязмитинову.
И сверх того поцеловал Добрынина в лоб и сказал:
– Поезжай, умница.
Добрынин бросился было милостивцу в ноги по монастырскому обычаю, но как-то уперся в эфес своей шпаги и на ногах устоял.
Так действует на человека благородство.
Каховский принял письмо ласково и адресовал тотчас просителя к господину Алеевцеву.
Алеевцев был человек замечательный.
Стиль он имел краткословный, ясный, отрывистый, знал законы гражданские и представлял собой уже чиновника нового времени, хотя любил пить и за пьянство сидел часто под караулом для протрезвления.
Но вино не заставило еще господина Алеевцева отолстеть, он имел живые голубые глаза, был белокур и не то чтобы очень полон, но несколько толстоват.
Прочитав записку Каховского, Алеевцев спросил:
– И что же вам надобно?
Добрынин поклонился не так низко, чтобы не подумали, что он проситель бесплатный, и сказал: