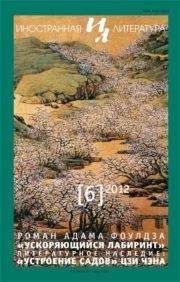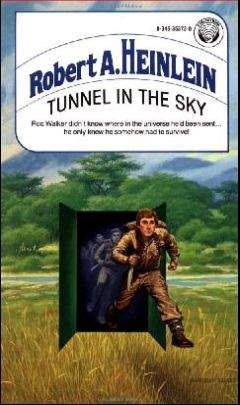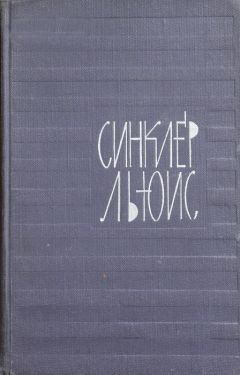Дмитрий Мережковский - Рождение богов (Тутанкамон на Крите)
О, эти два яблочка – «сладкое яблочко, съесть тебя хочется!» – два сосца неувядаемых у сорокалетней женщины, как у шестнадцатилетней девочки, – два острых кончика, смугло-розовых, тоже подкрашенных, и на каждом рдяная точка румян, капелька крови на острие ножа!
«Чтобы груди от родов не портились, вытравляют плод», – вспомнил Тута еще одну хитрость хитрецов-дэдалов.
Эранна, видя, что не скоро будет то, о чем она томилась, отвернулась от ристалища со скукою, заметила Тутин жадный взгляд, услышала страстный шепот и улыбнулась ему:
– Что ты все шепчешь?
– Песенку.
– Какую?
– А вот, слушай.
Говорили по-египетски: она хорошо знала этот язык, модный при здешнем дворе.
Тута подсел ближе и зашептал ей на ухо:
Быть бы мне черной рабыней, ее раздевающей, —
Всю наготу сестры моей увидел бы я!
Быть бы рабом, одежды ей моющим, —
Надышался бы я благовоньями тела ее!
Быть бы мне перстнем на пальце сестры моей, —
Вечно б носила она, берегла бы меня!
Быть бы мне миртовой вязью на груди ее, —
Зацеловал бы я сосцы моей возлюбленной!
– Хороша песенка? – спросил он.
– Недурна.
– А есть другая, еще лучше.
– Ну-ка, скажи.
Он опять зашептал:
Мой царь, мой брат, мой бог!
Как сладко мне в воду с тобою сходить,
К распускающимся лотосам!
Как сладко с тобою купаться вдвоем,
Наготу мою тебе показывать
Сквозь льняную ткань, прозрачную,
Благовоньями облитую!
И, нагнувшись к вырезу, вдохнул запах мускуса, мирры, туберозы мучительной, и чего-то еще сладкого, страшного, как бы женского тела-тлена. «Ужо провалитесь все в преисподнюю!» – почудилось ему в этом смраде благоухающем.
– Какое это благовонье у сестры моей? – полюбопытствовал.
– А разве у вас нет такого в Египте? Весь Мемфис, говорят, как склянка с благовоньями.
– Такого нет, такого нет нигде! – прошептал он – Оно, как ты… пьяное.
Чуть не сказал: «распутное». А если б и сказал, может быть, не обидел бы.
– Благодарю за любезность! – рассмеялась Эранна. – А господин мой пьяных любит? Знаю, знаю, зачем ездил на Гору, за кем подглядывал! – пригрозила ему пальчиком.
«Уж не знает ли, как на плечах Гингра скакал?» – смутился Тута и переменил разговор.
– Есть у нас в Египте, на стенах святилищ, изображения: богиня любви, Изида-Гатор кормит грудью царя, прекрасного отрока; как младенец ко груди матери, он припадает к сосцам божественным…
– Ну, и что же? – усмехнулась она лукаво…
– Грудь у сестры моей, как у богини любви…
– Ну, и что же? – повторила и усмехнулась еще лукавее.
Молча скосил он глаза на вырез, как кот на сливки.
– Чудаки вы, египтяне! – засмеялась Эранна.
– Почему чудаки?
– Да уж очень запасливы: гробы себе, домы вечные строите загодя и чего туда ни кладете, чтоб на том свете не соскучиться: книжечки с любовными сказками и такие картинки, что и сказать нельзя… Ведь правда?
– Правда.
– И ты положишь?
– Как все, так и я.
– А хочешь, я дам тебе моего благовонья? Положишь в гроб и его – вспомнишь обо мне на том свете… Знаешь, как оно называется?
– Как?
Она прошептала ему на ухо такую непристойность, что он покраснел бы, если бы поклонник богини Гатор мог краснеть от чего-нибудь.
Обернулась к черной рабыне, тринадцатилетней девочке, державшей над ней зонтик-опахало с тканым узором лучистых кругов, суженных внутрь, тускло-коричневых по желтому полю, как бы огромный увядающий подсолнечник. Зонтик опустился и скрыл их обоих. Эранна заглянула Туте прямо в глаза и вдруг, как будто застыдившись, потупилась на вырез платья.
Тута понял – быстро наклонился и припал ко груди ее, как отрок-царь – к сосцам богини Гатор.
– Что ты, что ты? Увидят! – смеялась Эранна, но не противилась.
Черная рабыня, видя все, улыбалась им с невинным бесстыдством зверихи, и они не стыдились ее, как люди не стыдятся зверя.
Тута почувствовал на языке своем приторный вкус румян: рдяную точку – капельку крови с острия ножа – слизнул нечаянно.
Краток был миг блаженства: едва успел он оторваться от «сладкого яблочка», как зонтик опять поднялся.
– А просьбу мою не забыл? – спросила Эранна спокойно, деловито.
Просьба была о кулачном бойце в Кносском ристалище, любовнике ее, желавшем поступить на военную службу в Египте, в царские телохранители.
– Просьба госпожи моей – повеление: все уже исполнено, – ответил Тута.
По знаку Эранны зонтик опять опустился, и младенец припал ко груди матери.
Это понравилось Туте; честно, без обмана: заплатил – получил.
– Смотри, смотри! – заговорила она. – Бедненький Пеночка, Пазифайин возлюбленный… Да что с ним сегодня? Прыгает, бесится как! У-у, страшный какой, божественный! Слава Адуну, вот когда начинается!
– А плясунья кто? – спросил Тута, не разглядев.
– Разве не видишь? Сама невеста бога Быка, Пазифайя – Эойя!
II
Эойя приехала в город накануне игр, чтобы повидать купца из Библоса, имевшего к ней предсмертное письмо Итобала.
Когда прочла, что отец простил и благословил ее, умирая, – точно гора свалилась с плеч ее. Обрадовалась так, что захотелось плясать, подумала: «Хорошо, что игры сегодня: так спляшу, как еще никогда!»
Об играх узнала в тот же день, за несколько часов. Дио, бывшую за городом, в своем уединенном доме, близ Гавани, известить успела бы, но не хотела: знала, что ей слишком тяжело сейчас выходить в толпу, плясать. С какою тяжестью в душе вернулась она с Горы, Эойя догадывалась: помнила, как усмехался, стоя на дереве, над пляскою фиад, тот бесстыдник, безбожник, диавол Таму.
В городе узнала она, что дня за три, в день игр, отмененных по болезни царя, схвачен был один из ристалищных бычников, пытавшийся опоить пьяным пойлом Пеночку. Тут же, на месте казнили его, по уставу игр: удавили на первой попавшейся веревке, как собаку, спаивать бога Быка считалось неслыханным злодейством. Все же имя Кинира, сына Уамарова, сообщника своего, он успел назвать перед смертью. Но никто ему не поверил: слишком почтенный старик был Кинир, чтобы участвовать в таком злодействе.
«Это он, Таму, диавол, ищет души моей», – подумала Эойя, услышав имя Кинира. «А ведь так легко, пожалуй, не отступятся: раз не удалось – в другой раз может удасться. Надо бы осмотреть Пеночку», – промелькнула мысль. Но странно-легко забыла об этом. «Легкий день сегодня: все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда!»
Выбежала на ристалище. Бык уже стоял на нем, один: всех остальных угнали, все плясуны и плясуньи ушли.
Увидев ее, пошел на нее медленно, уставив рога, взрывая пыль копытом, с мычанием глухо-прерывистым.
Она ждала его, не двигаясь; только искала глазами глаз его: знала, что для победы над зверем важнее всего человеческий взор.
Взор его уловила, но чуждый, мутный, как бы подернутый мертвой пленкой. Не он, не он, а кто-то другой глянул на нее из глаз его!
Бесится, бывало, всегда как будто притворно, только для зрителей, а на самом деле пляшет с ней ладно, мерно, под мерную музыку флейт. А теперь идет неуклюже, нелепо, шатаясь, как пьяный.
Подойдя почти вплотную, рванулся, ринулся на нее бешено. Ласточкой взлетела – перелетела она через рога его на спину. Легла, положила голову между рогов. Он поднял морду и дохнул на нее пьяным пойлом. Не испугалась. «Пусть пьян – укрощу и пьяного. Все хорошо будет. Так спляшу, как еще никогда!» – повторила, как заклинание.
Бык поднялся на дыбы, как будто хотел опрокинуться навзничь, чтобы раздавить ее всей своей тяжестью. Но уже соскочила с него и, прежде чем он успел повернуться к ней, – стояла на другом конце ристалища.
Вдруг, взглянув на толпу, увидела рядом с царским шатром, на почетной скамье, спереди, Кинира и Таму. «А, сучка, попалась! Ну, теперь уж конец – не отвертишься!» – прочла в глазах обоих. Но не испугалась:
«Все хорошо будет – так спляшу, как еще…»
Острый, как острие ножа, кончик рога царапнул ее по плечу. Бык набежал на нее сзади, когда смотрела на Кинира и Таму. Успела бы отскочить, если бы движение зверя было осмысленно; но опять рванулся, шатнулся нелепо, как пьяный, и задел ее нечаянно.
Кончик рога только скользнул по плечу и содрал с него кожу. Но уже текла тонкой струйкой по телу кровь.
Кровь увидев, толпа заревела неистово:
– Режь! Режь! Режь!
Жертву зарезать – заклать молила бога Быка.
Царь Идомин высунул бычью морду, личину, из-за шатровых завес, замахал красным, как кровь, лоскутом, и флейты запели песнь закланий жертвенных.
– Режь! – вопила и Эранна вместе с толпою.
«Если погибнет Эойя, то и Дио – с нею», – подумал Тута и привстал.
– Куда ты? – спросила Эранна.
– К царю.
– Зачем?
– Просить, чтоб пощадил Эойю.
– Не надо! Сиди, не пущу! – сказала она, схватила его за руку и опять усадила рядом с собой, почти грубо, насильственно. – Разве тебе здесь не хорошо?