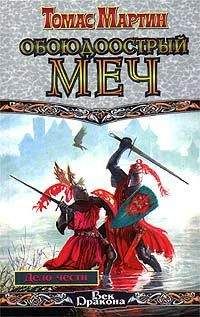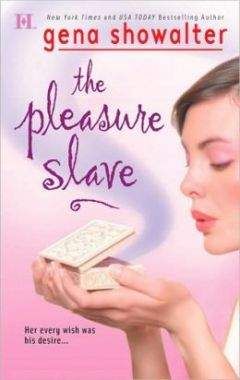Говард Фаст - Мои прославленные братья
— Так смирись сердцем. Левел.
Затем Иегуда сказал адону, что тех немногих рабов, которые были в Модиине, нужно отпустить на свободу.
— Почему? — спросил адон.
— Потому что только свободные люди могут сражаться, как свободные люди. И адон сказал:
— Спроси у людей.
Так мы впервые собрали свой сход в долине. Из соседних деревень Гумада и Демы пришли люди, и синагога просто не вместила бы всех. И Иегуда, взобравшись на остаток старинной каменной стены, говорил:
— Пусть не идет за мной тот, кто робок душой! Пусть не идет за мной тот, кому его жена и дети дороже свободы! Мне не нужен тот, кто считает меру своего участия в борьбе! У нас есть лишь один путь, и кто пойдет этим путем, должен идти налегке. Мне не нужен ни раб, ни слуга — пусть он либо уходит, либо берет оружие в руки.
— Кто ты такой, чтобы так говорить? — спросили из толпы.
— Я еврей из Модиина, — ответил Иегуда. — Если еврею нельзя говорить… Что ж, я замолчу.
Была в нем необычайная простота, но он также прекрасно знал толпу. И стал он спускаться, но раздались крики:
— Говори! Говори!
— Я не принес вам даров, — сказал Иегуда просто. — Я принес вам тревогу, и на руках моих кровь, и ваши руки тоже будут в крови, если вы пойдете за мною.
— Говори! — кричали ему из толпы. И потом, когда из Гумада пришло двадцать вооруженных мужчин и искали Иегуду, они спрашивали в деревне:
— Где нам найти Маккавея?
И люди Модиина показали им на дом Мататьягу. Так было перед возвращением Апелла.
Я говорил уже, что дорога, проходящая через нашу деревню, пересекает всю долину. Много чего сделал в деревне Иегуда, но наблюдение за дорогой я взял на себя: каждое утро я посылал кого-нибудь из наших деревенских парней в дозор на высокий утес над деревней, с которого видна дорога в обе стороны на много миль. С одной стороны эта дорога вела на восток — через соседние деревни, горы и долы к самому Иерусалиму, а с другой стороны, на западе, она ныряла в густой лес и через этот лес вела к Средиземному морю. Один день на дозоре стоял Ионатан, другой день — еще кто-нибудь. И с восхода до заката, сидя на утесе, наш дозорный вглядывался вдаль — не блеснут ли там на солнце начищенные доспехи, не засверкают ли пики. Я знал, что это случится, и случится скоро. В такой земле, как наша, ничего не сохранишь в тайне, и любая новость быстрее ветра облетает все долины и деревни.
У меня не было той абсолютной уверенности, как у Иегуды. В нашей деревне были люди сильные и слабые, бедные и богатые; легко было толковать за столом, как мы будем сражаться, но что в действительности произойдет, когда наступит решительный час? Эльазар с Ионатаном боготворили Иегуду; любое его слово, любое его желание было для них законом. Могу ли я отрицать, что меня охватывала зависть, когда я видел, как они слушают его, как смотрят на него. Иногда я чувствовал, что во мне просыпается былая ненависть, горечь, и спрашивал себя: «Почему он не такой, как другие?» Я чувствовал свою вину, ибо в глубине души я знал, что если бы Иегуда был в тот день в Модиине, Рут не погибла бы, — и меня раздражало в Иегуде даже то, что я не услышал от него ни слова укора, гнева или осуждения. И все же, когда Иоханан пришел ко мне за сочувствием, я напустился на него.
— И ты тоже за это? — спросил он.
Его жена ждала ребенка.
— За что я? — переспросил я.
— За войну, за смерть. В Писании сказано: «Живите в справедливости, живите в мире». Но как только начинает говорить Иегуда, мы сразу же перестаем думать своей головой.
— А ты о чем думаешь, Иоханан? — спросил я.
— По крайней мере, так мы хоть останемся живы.
— А жизнь тебе очень дорога? — закричал я. — Разве это хорошая жизнь, счастливая жизнь, радостная жизнь?
Я осекся. Не уподобляюсь ли я уже адону? Кто он — мой брат или чужой человек? И все же, даже сам того не желая, я нашел самый жестокий укор, какой мне только мог прийти в голову:
— Сын ли ты Мататьягу, или выродок? Еврей ли ты?
Это было, как удар кнута, и Иоханан весь сжался. Нет, это было хуже, чем удар кнута, ибо он был святой человек, он ни разу в жизни ни на кого не повысил голоса, он принимал волю Божью и на все отвечал покорным еврейским «Аминь, да будет так!» Он поглядел на меня, опустил голову и пошел прочь.
А затем возвратился Апелл.
Утром тринадцатилетний Натан бен Барух сбежал быстрее оленя с утеса, крича во весь голос:
— Шимъон! Шимъон!
Его сразу же услышала вся деревня, и, когда я вышел из дому, мне пришлось проталкиваться сквозь густую толпу, чтобы поговорить с мальчиком.
— Откуда?
— С запада.
— Далеко?
— Мили две или три примерно. Я следил, не блеснет ли где железо, как ты мне велел, а потом увидел людей…
— У нас еще есть время, — сказал Иегуда, успокаивая толпу. — Ступайте по домам, заложите засовами двери, заприте ставни и ждите.
У него был маленький серебряный свисток, который Рувим сделал специально для него.
— Когда я вас позову, выходите: у кого есть копье — с копьем, остальные с луками. Следите, чтобы хорошо класть стрелу на тетиву, и старайтесь целиться метко.
— А как же люди из Гумада?
— Слишком поздно, — сказал Иегуда. — Придется справиться самим.
— Мы могли бы уйти в горы, — предложил кто-то.
— Мы могли бы стать на колени перед Апеллом. Ступайте по домам — и кто боится, пусть остается там.
Все сделали, как он сказал. Двери затворились, и деревня сразу же словно вымерла. Адон, рабби Рагеш, Иегуда, Эльазар и я стояли на площади и ждали. У меня был за поясом нож, а Иегуда спрятал под плащом длинный обоюдоострый меч Перикла. Потом из дома выбежал Ионатан и стал рядом с нами. Я хотел было послать его назад, но Иегуда взглянул на меня и кивнул — и я промолчал. Через минуту к нам подошел Иоханан и Рувим бен Тувал.
Кузнец был в плаще, под которым прятал свой молот. Итак, нас было восемь. Придвинувшись друг к Другу, мы стояли и ждали. А затем мы услышали бой барабана и лязганье брони — появились наемники: сначала строй в двадцать человек, за ними Апелл на носилках, а затем еще шестьдесят человек, по двадцать в ряд. Всадников на этот раз, к нашему облегчению, не было, но зато среди наемников шагал еврей — это был левит в белой одежде, и я сразу же узнал в нем одного из служителей Иерусалимского Храма.
Рабы опустили носилки, и Апелл спрыгнул с них, комически великолепный в своем вышитом золотом плаще и короткой красной юбочке. Я отлично помню, как он стоял на деревенской площади в то прохладное, какое часто бывает осенью в Иудее, утро — апостол цивилизации, тщательно завитой и причесанный, с накрашенными губками и чисто выбритыми розовыми щечками; под подбородком у него красовался золотой нагрудник. Грудь каплуна выгнулась колесом под плащом, толстый зад выпирал из обтягивающей юбочки, а маленькие ножки были втиснуты в серебряные сандалии, и ремешки от сандалий стягивали толстые икры.
— Адон Мататьягу, — приветствовал он нас, — благородный властитель благородного народа! Отец кивнул, но не промолвил ни слова.
— И так-то меня принимают? — прошепелявил Апелл. — Восемь человек — разве этого достаточно, чтобы встретить наместника?
— Все люди у себя дома.
— У себя в свинарниках, — улыбнулся Апелл.
— Мы позовем их, если желаешь, — сказал адон спокойно и почтительно.
— Конечно, конечно! — подтвердил Апелл. — У меня сейчас как раз настроение встретиться с вами. Все надо делать культурно. Ясон! — закричал он, махнув рукой в сторону левита.
Левит нетвердым шагом подошел к Апеллу. Он был явно напуган. Лицо у него было белое, как его одежда, а его жидкая бороденка и редкие усы заметно дрожали.
— Добро пожаловать в Модиин, Иосеф бен Шмуэль, в нашу бедную деревню, учтиво сказал отец.
— Шалом, — прошептал левит.
— Старинное приветствие, доброе приветствие! — сказал адон. — Мир тебе, Иосеф бен Шмуэль. Мы польщены визитом старейшины левитов.
— Он здесь для того, — улыбаясь, прошепелявил Апелл, — чтобы совершить жертвоприношение. Великий царь так сказал своему недостойному наместнику:
«Сердце болит, когда я размышляю об этих темных людях и их прискорбных суевериях. Народ, у которого незримый бог, — это скрытный и злокозненный народ». Так сказал царь царей мне, недостойному наместнику, и что мог я сделать, как не повиноваться его воле? Но я привел сюда доброго Ясона, левита, чтобы он совершил обряд и принес жертву так, как положено по вашему закону.
Апелл хлопнул в свои пухлые ладошки, и двое наемников вынесли и поставили перед нами на землю бронзовый алтарь. Это была изящная вещь высотой, наверно, ступни четыре, и был он украшен статуэткой Афины.
— Афина Паллада, — сказал Апелл, суетясь вокруг алтаря. — Это я выбрал ее — богиню мудрости. Сначала приходит знание, а следом за ней — цивилизация. Не так ли? Сначала Афина, а потом Зевс и быстроногий Гермес. Полноценный человек — это многосторонний человек, не правда ли? Зажги огонь на алтаре, Ясон, и воскури фимиам, — и тогда мы вызовем людей: пусть они полюбуются, как адон воздаст почести этой благородной госпоже.