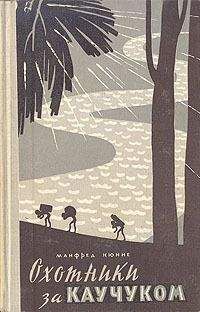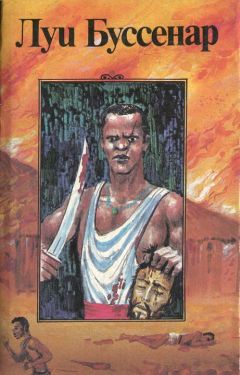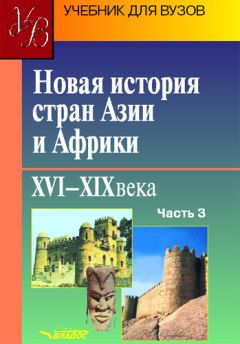Василий Ливанов - Агния, дочь Агнии
— Эта ему не нравится, — пробормотал рядом со мной пожилой скиф, — не нравится ему эта.
Теперь выступала вороная, поджарая, профиль — как у жены фараона. Шла, раскачивая крупом, мела хвостом по коврам.
— Тихо! — снова прокричал тот же голос. Полная тишина. Напряженные спины слуг.
— Хммм… — И все. Все?
Одна кобыла сменяла другую. Все напрасно. Бесславно увели последнюю избранницу. В толпе нарастал неудержимый смех.
И вдруг, непонятно как проникшая за заслон, из-за шатра появилась наша старая крапчатая кобыла. Толпа взорвалась хохотом. Кобыла шла по царским коврам, понурив голову и растопырив уши, лениво обмахиваясь жидким хвостом.
— И-и-и-и-а-г-р-ммм! — это не ржание, это рев льва, это гром, это песня.
— Аааа! — завопила толпа.
За всколыхнувшимися спинами я увидел золотую разметанную гриву, стрелами торчащие уши.
— И-и-и-гррр! — толпа бросилась врассыпную.
Я побежал с толпой, потерял Аримаса и Агнию, упал, вскочил, побежал обратно. Аримас уже сидел на кобылке и лупил ее пятками в бока, стараясь увести от шатра. Жеребец, не переставая петь свою песню, волочил по коврам обоих слуг, вцепившихся в поводья. Повсюду плясали мальчишки.
Праздник кончился.
Царь укрылся за красным пологом. Знатные гости поспешно разошлись по своим шатрам. Только слуги и охрана продолжали стоять вокруг царского жеребца, ожидая приказаний и томясь дурными предчувствиями. Но царь как будто забыл о своем любимце.
Мы с Аримасом метались по огромному праздничному лагерю, разыскивая Агнию. Ее нигде не было.
Когда Аримас обращался к людям с расспросами, от него отшатывались, как от чумного. Люди показывали пальцами ему вслед. Теперь гневный лик Табити-богини с озорно высунутым дразнящим языком породил неуемную тревогу в людских сердцах.
«Недаром этот кузнец выковал такой образ, — стали перешептываться люди, — сама Змееногая направляла его руку. Разве не она, Табити, провела невидимой через живой заслон охраны старую крапчатую кобылу? Разве не она вдохнула нелепую страсть в сердце прекрасного царского жеребца, чтоб унизить царя перед всеми скифами? Зла любовь — кто-кто, а старый Мадай должен был помнить об этом. Но не только смеяться умеет Великая…»
Вспомнили люди, как перебегали гневные искры в глазах богини, осознали, как глупо хохотали ей прямо в лицо, и страх охватил их. А когда черные, низкие тучи внезапно заволокли небо над степью, толпа, стеная, сгрудилась вокруг большого жертвенного камня и, подставляя спины порывам холодного ветра, разожгла пламя.
Едва огонь окреп, в него полетели меховые шапки, колчаны, гориты, ножны, деревянные походные чаши, пояса. Кто-то швырнул в пламя содранные с ног, густо расшитые бисером сапоги. Все, что было ценного на них и при них, когда смеялись они в лицо Табити-богини, люди бросали теперь в жертвенный костер, стремясь отвести от себя гнев Змееногой. Пламя бушевало, пожирая людские подношения, металось под ветром, опаляя сухим жаром лица столпившихся вокруг камня людей.
— Знак, дай нам знак, Великая!.. — сложилось из разноголосого ропота толпы и вместе с пламенем поднялось к черному небу.
— Знак… дай нам знак…
Будто могучие руки разодрали сплошную завесу туч. Белая молния шипя, как змея, ударила в холм позади царского шатра, и яростный грохот оглушил степь.
Люди пали ниц вокруг жертвенного камня и лежали так, не смея поднять перекошенных ужасом лиц, захлебываясь в потоках рухнувшего на них ледяного ливня.
— Жертву! Жертву, достойную Великой… — прорыдал чей-то голос.
Люди поднялись как один. Толпа превратилась в огромного зверя, многоглазого, многорукого, жаждущего немедленно, сейчас же утопить в горячей крови первой попавшейся жертвы звериный свой страх.
Царский жеребец в мокрой, обвисшей попоне все еще стоял у шатра на взбухших от воды коврах. Глаза человеческого зверя остановились на нем. Вот она, жертва, достойная богини!
И зверь, дрожа и задыхаясь от страха и ярости, потек к шатру, многоного оскальзываясь в жидкой грязи.
Толпа нахлынула, давя охрану, повалила коня, подмяла под себя. Царский любимец, оскорбленный причиненной ему болью, забился отчаянно, раздавая смертоносные удары золочеными своими копытами. Десятки рук вцепились в него, сорвали пурпурную попону и панцирь, сковали движения. Помятого, искалеченного толпа подняла коня на плечи и повлекла к жертвенному камню. В опьянении священного восторга люди втаптывали в грязь лик богини на раздавленном ногами панцире.
Костер, залитый дождем, погас. Поднимать пламя не стали. Жертву притиснули к мокрому боку черного камня. Торопясь, вытащили ножи.
— Не сметь, собаки!
Толпа обернулась на окрик. Мадай Трехрукий, царь над всеми скифами, шел от шатра прямо на толпу, высоко неся седую голову, словно не видя людей перед собой. Мокрые волосы облепили лоб, глаза глядели мертво и страшно. Обнаженный клинок подрагивал в опущенной руке.
Толпа смутилась. Перед царем расступались, но снова смыкались за его спиной, напряженно выжидая. Царь остановился у черного камня. Жеребец потянулся к хозяину, тоненько заржал. Толпа надвинулась в недобром молчании. Люди не прятали приготовленных ножей.
— Я сам, — тихо сказал коню Мадай.
Он схватил за уздечное кольцо, вздернув конскую голову, коротко взмахнув, полоснул клинком.
— Слава тебе, Табити-богиня! — истошно завопили люди, валясь вслед за конем к подножию черного камня.
Мадай повернулся и пошел прочь, наступая на тела лежащих в молитве. Он скрылся в шатре, не оглянувшись. Люди, ликуя, принялись разделывать тушу золотого царского жеребца.
В шатре было полутемно. Светильники еще не зажигали, и сумеречный сиреневый отсвет грозового этого дня лежал размытым пятном вокруг опорного столба, на коврах, разбросанных подушках и блюдах с остатками трапезы.
Шум дождя был здесь почти не слышен, но отдельные капли, ударяя в края защитной крыши над очажным кругом, заставляли ее звучать непрерывным медным гулом.
Мадай долго простоял без движения, вслушиваясь в заунывный этот гул, уставя глаза в большое серебряное блюдо, до блеска вылизанное усердными едоками. Дождевая капля, заброшенная порывом ветра под щитовой заслон, с разлету звонко цокнула в самую середину блюда, выведя царя из оцепенения.
И сразу же все беды этого дня навалились на него, сокрушая и топча последнюю волю к жизни. Внезапная дрожь подломила колени и стала подниматься зябкой волной, сотрясая сильное и тяжелое его тело и удушьем подбираясь к горлу. Стуча зубами, Мадай опустился на ковер и только тут заметил, что все еще сжимает в ладони рукоятку меча. Содрогаясь, он отбросил оружие. Меч пролетел мимо опорного столба, сверкнув лезвием в грозовом отсвете, и беззвучно канул в темноту. Мадай проводил его взглядом. Там, в темноте, куда упал его меч, происходило какое-то неясное движение. Что-то приближалось оттуда к Мадаю, а что это было или кто — Мадай не мог определить. Он хотел окликнуть, но дрожь отняла голос.
Из-за столба выдвинулось нечто бесформенное, растрепанное. В неясном, быстро убывающем свете медленно проступили очертания лба, с глубоко запавшими темными глазницами под ним, обозначился нос и рот, растянутый в жуткой, мертвенной улыбке. Кольца змей-волос сплетались вокруг лика и тонули в темноте. Кончик высунутого языка подрагивал между зубами.
Табити-Змееногая!
— Сейчас ты умрешь! — произнес лик.
«Я готов! — хотел ответить Мадай. — Я не был счастлив в этой жизни. Быть может, там…»
— Агния! — вдруг громко крикнул кто-то в шатре, и Мадай узнал свой голос, молящий и жалкий.
Вспышка пламени озарила стены, отринув мрак. Круглая шапка Массагета заслонила лик богини. Лязгнуло оружие. Старый меч царя упал, ударившись о серебряное блюдо, и, вызванивая, завертелся по ковру, сшибая кувшины.
Но Мадай уже не видел это. Силы оставили его.
Дождь лил не переставая. Он не дал развести огонь вокруг врытых в землю больших медных котлов. Поэтому около черного камня пылал огромный общий костер. Временами багровые сполохи вырывали из темноты цвета даже самых дальних шатров и кибиток.
Тени пляшущих людей бесновались на расхлябанной дождем, широко освещенной земле, корчились, сливались, разбегались, бросались под свалившихся с ног или бесконечно вытягивались, соединяясь с мраком, когда человек почему-либо отдалялся от огня.
Баранов, пригнанных из степи, резали тут же. И, насадив куски мяса на острия копий, протягивали к жару костра. В эту ночь перепились все, даже женщины. Они сквернословили наравне с мужчинами, громко горевали и жадно веселились. То тут, то там вспыхивали драки, слышались женский визг, рычание мужских голосов. И все это тонуло в шуме дождя, в нестройном пении обезумевших людей и в диком их хохоте.