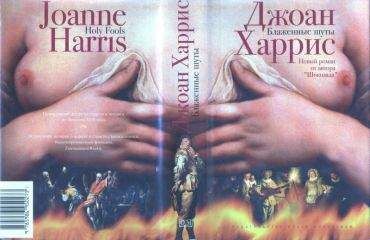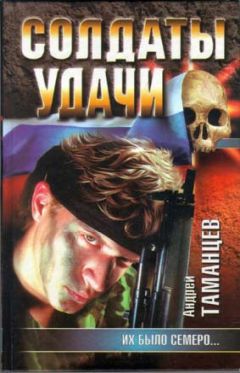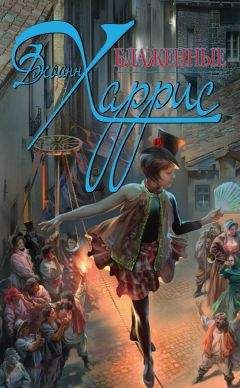Джоан Харрис - Блаженные шуты
Да, лето выдалось засушливое, думала я. Без дождей худо будет с урожаем, с кормом для скота и птицы. Рано поспевшая ежевика уже ссохлась, превратившись в серые комочки. Виноград тоже страдает от засухи, ягоды твердые, точно горошины. Мне стало жалко всех, кому, подобно труппе Лазарильо, выпала в это лето бесконечная дорога.
Дорога. Я представила ее себе, вызолоченную солнечным светом, усеянную осколками моей прежней жизни. Была ли моя дорога так уж плоха? Тяжко ли я страдала все годы странствий? Всякое бывало. Мы знали холод и голод, предательства, гонения. Я силилась все это вспомнить, и дорога сияла передо мной, словно путь сквозь зыбучие пески, и мне вспомнились слова, которые однажды произнес Лемерль в ту пору, когда у нас все было хорошо.
— Мы с тобой по природе схожи, — сказал он. — Мы оба пламенные натуры. Как огонь и воздух. Стихию, которая нас породила, невозможно изменить. Потому, моя Элэ, дорога — наша судьба. Нельзя огню не гореть, а птице отказаться от неба.
Мне это удалось. Я отказалась от неба, и вот уже столько лет даже глаз не поднимаю в вышину. Но я не забыла. Дорога остается дорогой, и она терпеливо ждет моего возвращения. Как страстно я этого хочу! Что смогла бы я отдать, чтоб вернуть свободу, вернуть себе женское имя, женскую судьбу? Чтоб каждую ночь видеть иные звезды, чтоб есть мясо, поджаренное на костре, чтоб танцевать на канате, а, возможно, и — летать? На этот немой вопрос мне и отвечать не надо. От одной лишь мысли я радостно встрепенулась и снова на миг стала прежней Жюльеттой, той, что пешком пришла в Париж.
Нет, что за вздор. Распроститься с налаженной жизнью в монастыре, с близкими людьми, предоставившими мне спасительный кров? Пусть монастырь и не стал мне желанным домом, о котором я мечтала, но он дал мне все необходимое для жизни. Пищу зимой, крышу над головой, работу для не ведавших грубого труда рук. Ради призрачной мечты бросить все это? Поставить все на карту?
Тяжелые ботинки вязли в песке, занесшем тропинку. Я со злостью пнула носком в песок. Все ясно, сказала я себе. Ясно и до глупости очевидно. Жара, бессонные ночи, являющийся в снах Лемерль… Мне нужен мужчина. В этом все и дело. Элэ меняла любовников каждую ночь, выбирала какого хотела — то нежного, то грубого, то темноволосого, то белокурого, и сны ее слагались из их запахов и их тел. Да и Жюльетта была натура чувственная: Джордано укорял ее за то, что плавала нагая в реке, что валялась по росистой траве, что тайно часами засиживалась над его латинскими поэтами, с трудом разбирая незнакомый язык, только чтоб хоть изредка представить себе тугую задницу римлянина… И Элэ, и Жюльетта знали, как одолеть этот недуг. Но мне — сестре Огюст, с мужским, даже стариковским[28], именем — как мне-то быть? С тех пор, как родилась Флер, я мужчины не знала. Можно было бы за утешением прибегнуть к женской ласке, как сестра Жермена с сестрой Клемент, но эти радости никогда меня не прельщали.
Жермена, муж которой, застав ее с девицей, полосонул ей лицо кухонным ножом четырнадцать раз, по числу ее тогдашних лет, — ненавидит мужчин. Я замечаю, что она поглядывает на меня. Я вижу, она считает меня красивой. Не такой, как Клемент — с личиком мадонны и грязными помыслами, — но достаточно для себя привлекательной. Иногда она подолгу смотрит на меня, когда мы работаем в саду, но ни слова не проронит. Ее светлые волосы острижены короче, чем у мальчишки, но под нескладной коричневой робой угадывается стройный и грациозный стан. Из Жермены могла бы выйти отличная плясунья. Но портит ее не только изуродованное лицо. Спустя шесть лет после того несчастья, она внешне кажется старше, чем я: бледные, тонкие губы; почти бесцветные, точно соляной раствор, глаза. Она сказала мне, что подалась в монастырь, чтоб больше не видеть мужчин. И вся она — точно кислое яблоко, точно иссушенный виноград, что рад бы налиться, да гибнет без дождя.
Смазливая и наглая Клемент все это видит и заставляет Жермену страдать, заигрывает со мной, когда я занята своими монашескими заботами. В часовне она порой шепотом кокетничает, ластится ко мне, в то время как Жермена за ее спиной беспомощно, подавленно слушает, внутренне страдая, хотя ее изуродованное лицо, как обычно, ничего не выражает.
Жермена — человек без веры, она ни малейшего интереса к религии не испытывает. Как-то я рассказала ей про своего Бога с женской душой — думала, ей это понятней с ее ненавистью к мужскому полу, — но она и мои слова восприняла равнодушно.
— Если даже такое когда и было, — бросила она сухо, — после мужчины все равно все перекроили по-своему. Иначе зачем бы им держать нас взаперти и внушать нам чувство вины? Чего им так бояться?
Я возразила, сказав, что у мужчин нет причин бояться нас, на что она с резкой усмешкой бросила:
— Да ну? — И указала на свое лицо: — А это что, по-твоему?
Может, она и права. Но все же во мне нет к мужчинам ненависти. Только к одному-единственному, но даже и он… Снова прошлой ночью он был в моем сне. Так близко, что я чувствовала запах его пота, его кожи, гладкой, как моя. Я его ненавижу, но в моем сне он был нежен. Я узнаю его, где бы он ни был, даже если его лицо скрыто тенью, даже если лунный свет не золотит выжженную у него на плече лилию.
Меня разбудило пенье птиц. Миг я снова была в том времени, до Эпиналя, до Витре, и черные дрозды распевали вокруг нашего фургона, и мой любимый смотрел на меня, и в его смеющихся глазах стояло лето…
Всего одно мгновение. Лукавый демон прокрался ко мне в душу, пока я спала. Дух. Это невозможно, не должна я больше томиться о нем, сказала я себе.
Ни единой жилкой.
Было уже далеко за полдень, когда мы возвратились в монастырь. Я сняла свой плат, но все равно волосы были влажны от пота, балахон лип к телу. Флер семенила рядом, волоча в руке свою Муш. Ни единой души не было видно. Оно и понятно при таком зное, ибо многие из сестер в отсутствие настоятельницы пристрастились дремать в дневное время, отложив свои нехитрые заботы на прохладное время после Часа Девятого[29]. Однако, увидев нездешнюю лошадь, пасущуюся у монастырских ворот, а также следы колес на пыльной земле, я тотчас поняла: то, чего мы ждали уже тринадцать дней, наконец свершилось.
— Комедианты, что ли, вернулись? — с надеждой спросила Флер.
— Нет, маленькая, похоже, не они.
— Жалко!
При виде ее огорченной мордашки я чмокнула ее в щеку.
— Поиграй тут немного одна, — сказала я. — Мне надо в монастырь.
Проводив Флер взглядом, — она припустила вприпрыжку по дорожке, — я повернулась и легким шагом, словно камень упал с души, пошла к монастырю. Ну, вот и настал конец тревогам и неизвестности. Теперь у нас новая настоятельница, теперь будет кому направить нас в нашей неприкаянности, в наших страхах. Она будет уравновешена и строга, эта женщина, пусть уже не первой молодости. Ее улыбка, должно быть, полна достоинства и спокойствия, правда, в ней есть и смешинка, ведь без этого невозможно утешить стольких разочаровавшихся в жизни. Это будет добрая, честная и порядочная женщина с материка, не гнушающаяся тяжелого труда, и пусть ее смуглые руки в мозолях, но они мягки и ласковы. Она, наверное, любит слушать музыку и работать в саду. Она, верно, женщина практичная, много на своем веку повидавшая, она сумеет помочь нам обрести опору в жизни, и в то же время она не слишком тщеславна, жизненный опыт ее не ожесточил, она еще способна взглянуть на мир с мудростью, с тихой радостью.
Оглядываясь назад и изумляясь своей наивности, я вижу, что те мои мечты явно были окрашены воспоминаниями об Изабелле, моей матери. Я знаю, она, какой вспоминается мне сейчас, не слишком схожа с той, что я видала в последний раз. Только любовь способна нарисовать в воспоминаниях ее так, как я сейчас ее вижу: нежной и сильной. В моей памяти она очень красивая, куда красивей Клемент, и даже самой Богоматери, хотя я до сих пор плохо помню и цвет глаз матери, и отдельные черты ее властного, смуглого лица. Еще не увидав нашу новую аббатису, я уже заранее представляла ее с лицом моей матери, и мне сделалось легко, как ребенку, который долго корпит один над сложнейшей задачей и вдруг видит в окно, что домой возвращается мать. Я припустила бегом к странно притихшему монастырю, волосы развевались на ветру, юбка взметалась выше колен.
Во дворе было тихо и прохладно. Я подала голос, едва вошла, но мне никто не ответил. В домике у ворот пусто; казалось, все обитатели покинули монастырь. Я бежала по широкой, залитой солнцем крытой аркаде между кельями, но никого нигде не было видно. Пролетела мимо трапезной, мимо кухонь, мимо пустого капитула, устремившись к церкви. Служба, говорила я себе, должно быть, давно закончилась. Видно, новая аббатиса собрала сход.
Подходя к часовне, я услышала голоса, пение. Сердце упало, я толкнула дверь. Первой оглянулась Альфонсина.