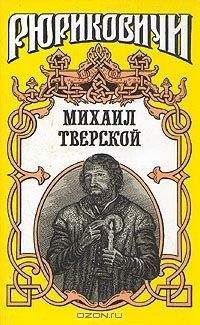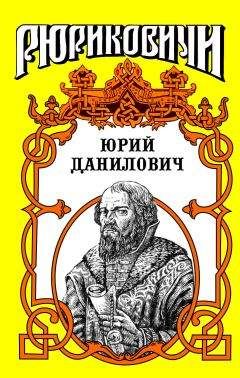Андрей Косёнкин - Долгие слезы. Дмитрий Грозные Очи
Да что мужики! Не остановился он и перед тем, чтобы родного брата за непокорство Орде сначала выгнать из законно унаследованного Владимира, а после столь унизить и обесчестить, что уж до самого смертного дня брат Андрей Ярославич пребывал в вечном страхе, жалкой, позорной немочи и душевном бессилии. Сказывали, будто Александр Ярославич-то, точно хряка или норовистого жеребца, велел в наказание охолостить брата, чтобы во всякий миг жизни тот чувствовал над собой его беспощадную волю… Да уж, как ни горд был князь Андрей Ярославич, ан без яиц-то, знака твоего мужского достоинства, не больно-то вспомнишь о гордости, поди, сам удивишься на себя прежнего: ужель это я хотел Русь поднять на татар? — и уж вовек не забудешь о боли и унижении последней кровавой ласки, что подарил тебе твой милосердный брат…
Нет, не над одним только бедным Андреем, но надо всеми русскими, что еще готовы были биться с погаными, учинил тогда расправу Александр Ярославич. Казалось бы, кто? Сам Невский! Уж он-то мог, мог своей волей Русь поднять на Орду, тем паче как ни прибита была она татарами, а все же готова была подняться на битву, коли сочувствовала Андрею-то! Ан убоялся Александр Ярославич, Бог ему судья и потомки. И все же, как его теперь ни хвали, Александра-то Ярославича, а ведь с него пошло малодушие русских князей пред татарами. Ведь до него-то иначе было! И не первым стал батюшка среди тех, кто честь выше жизни поставил!..
Но, Господи, Господи, можно ли было ныне открыто вступать с татарами в битву, прекрасно зная: куда как за меньшие вины столь славных русских князей погибло от железа поганых? Да гибли-то те, кто из лучших…
Взять хоть дальнего пращура по матушкиной родне князя Михайла Черниговского — убили лишь за то, что отказался в Батыевой ставке поклониться дымам, да кустам, да глухим идолищам поганых. Сказывают, как голову-то уж отъяли от плеч, губы его еще успели произнести: «Христианин есмь!..» Взять хоть опять же прапрадеда с матушкиной стороны князя ростовского, отважного Василька — уж после проигранной битвы на Сити, что ему, казалось бы, было не поклониться победителям, которые звали его стать другом! Ан нет, остался он непреклонен, так им ответствовал: «Враги моего отечества и Христа не могут быть мне друзьями, о темное царство!..» — и был убит, и брошен в Шеронском лесу… Да взять хоть рязанского страстотерпца князя Романа Олеговича! Тот принял смерть в страшных муках — ему отрезали язык, выкололи глаза, обрезали уши, руки-ноги рассекли по суставам и только затем уже отрубили голову. А за что? Лишь за то, что в своей земле славил Христову православную веру…
Да во все времена несть числа на Руси таким непреклонным мученикам!..
А разве не знал батюшка тех имен? Разве не понимал, что его ждет, когда повел тверские полки навстречу Кавгадыю и Юрию под Бортенево. То-то и оно, что знал! Давно уже знал, что именно так и будет, потому и не искал иных путей для спасения, затем и пошел в Орду умирать, дабы в смерти найти победу…
«Достоинство-то князя выше жизни и выше смерти — на то он и князь! — не раз про то поминала внукам бабушка Ксения Юрьевна. — Коли погиб, но не уронил достоинства, то и не проиграл, коли победил, ан без чести, то и не выиграл…»
Но разве смерть — не есть поражение? Даже если там, на небе, ждут тебя райские кущи, то здесь, на земле, твоя смерть — не есть ли вечное поражение?..
«Смертию смерть поправ!..» — так в светлый пасхальный день Воскресения поют в церквах о Христе, но так ведь то — о Боге! А может ли смерть обычного земного человека стать подтверждением его правоты?..
В последней исповеди своему духовнику престарелому священнику Ивану Царьгородцу, Царство ему Небесное, признался отец: «Добра хотел. Но, видно, моих грехов ради множащаяся тягота на Руси сотворяется… Умыслил положить душу свою за отечество, избавить множество от смерти и многоразличных бед…»
А избавил ли?.. Стала ли смерть той победой?.. Стоило ли умирать ради иных новых мук, что все равно, а может быть, и того еще пуще скоро грядут на Русь: вон Юрий-то уже близок, зря, что ли, народ отцова убийцу кличет антихристом, а коли кто и назовет по имени, так непременно сплюнет: а, Юрий, сучий сын… Но страх перед ним хуже страха, чем и перед самими татарами. Те-то, известное дело, нехристи, этот же — свой, потому и страшней! Да то еще страшно в нем, что нет перед ним ни Божиих, ни людских преград: ни совести, ни закона, ни княжеской чести… Коли не убоялся он на Божиего помазанника, на дядю своего, поднять руку, что ему Русь? И то, верно сказывают: не иначе антихрист он!..
Так стоило ли умирать-то, батюшка, даже если и впрямь венец земной поменял ты теперь на небесный, как про то говорят на Мологе…
«Венец!.. Кой венец?.. Вон оно что! Вон он откуда примстился!» — вспомнил вдруг Александр предутренний сон. То купцы, намедни вернувшиеся с Мологи, наплели ему сказок. Мол, на Моложской ярмарке сошедшиеся ото всяких мест люди сказывают, что уж не раз после убийства великого князя Михаила Ярославича видали они в небе разные знамения, а некоторые, мол, видели и самого убиенного…
«Венец! Вон оно что! Вон он откуда примстился…»
В те сказки и хочется верить, и боязно, и не верить нельзя, а все ж и от них нет на душе утешения.
Позади, в пыльном столбище, где двигался, приотстав, княжий поезд, возницы свистели кнутами, не давая князю уйти вперед, криком подгоняя коней, окольные гикали рядом, кони, кидая пену, всхрапывали норой в мокрые брыли, и лишь безразличное поприще послушно и молчаливо ложилось под их копыта.
Только в дальнем пути да на редкой, воистину светлой молитве нисходит на душу краткий покой. Однако не ныне — как ни бежит, ни уворачивается от горьких дум Александр — все тщетно. Лишь об одном думает он и помнит лишь об одном. За стуком копыт не слыхать, а то бы спутники слышали, как вдруг заскрипит зубами, а то и застонет князь, точно от нестерпимой боли.
«Ой ли, утрата! Утрата!..»
Не ведает Александр, пошто, на что уходит он из тихой наследной волости, где в этот год было ему и худо и непокойно, а все ж иногда хорошо.
«Вернусь ли?.. Утрата…»
От долгого гона притомилась Вечеря. Глаза слезятся глядеть в знойное, зыбкое марево, что качается впереди на скаку, как на детских качелях, качается небо: вверх-вниз, вверх-вниз… покуда не закружится голова.
И вдруг впереди, там, где сливается с землей в единую розово-синюю линию небесный, солнечный окоем, Александр увидел отца.
Отец был в тех же ниспадающих белых одеждах, что и во сне. И как ни был он теперь далеко, Александр видел — отец улыбался, как в недавнем сне, и так же, как давеча, улыбаясь, протягивал ему тяжелый, кровавый свиток: «На-тко, сынок, примерь…»
Глава 4. Разговоры на Мологе
Никто не упомнит, когда поднялся в устье реки Мологи, что впадает в Волгу как раз посередке меж Ярославлем и Угличем, развеселый Холопий городок. Только лет пятнадцать — двадцать тому назад, около Той поры, как вокняжился во Владимире великий князь Михаил Ярославич, Вдруг и вроде бы ни с того ни с сего заговорила о том городке вся Русь. Однако случайного мало что происходит на свете: ласточка перо скидывает и то не без особого на то умысла, а здесь будто разом целый город открылся. Стоял-то он на Мологе и раньше, только никто допрежь о нем и слыхом не слыхивал. Ну, стоит и стоит враскорячку по двум берегам: одним концом вытянулся Вдоль низкого моложского бережка, другим на высокий волжский берег закинулся — так по ночам-то иные бабы спать любят, закидывая коленку на мужа. Но мало ли таких раскидистых городищ!..
А тут звон и слава!
С тех пор как разорили и порушили Киев татары, захирел древний днепровский путь из варяг во греки. Не то чтобы возить по нему стало нечего, но некуда. Да и больно он стал опасен, того и гляди, подсклизнешься. По берегам-то столь бродников да ватажников развелось, не оглянешься, как голым пойдешь восвояси, ежели, конечно, голым-то выпустят. Не говоря уже о татарах, которые разбоем сроду не брезговали. Так что редко теперь кто отваживался пройти по Днепру, и уж вовсе редко кому удавалось пройти по нему, не подвергаясь грабежу и насилию. А кто, случалось, и достигал без потерь Сурожского или Серного моря, то и тот торговал там без должной пользы и выгоды — на татарских-то рынках и законы татарские. На заезжего русского гостя столь мытников набежит, что не враз и откупишься. Так что захирел при татарах-то прежний главный торговый путь…
Однако в купеческом сословии, известное дело, состоят люди ушлые. Коли их в одном месте прищучат, так они, неведомо по каким приметам прибыль угадывая, тут же в другом очутятся. На то он и купец, чтобы знать, где купить подешевле, а где продать подороже…
Так и возникло в устье Мологи огромное торжище, или первая русская ярмарка. Да где ж ей еще и быть на Руси, как не на Волге-матушке, хоть и приклеилось к той ярмарке имя малой речушки Мологи. Здесь, на великом водном пути, что становой жилой прорезает насквозь всю Русь, в самой ее сердцевине, недалече и от Твери, и от Владимира, и от Ярославля, и от Ростова, и от Нижнего, и от Москвы, сосредоточилась ныне удалая да хитрая, разгульная да прижимистая купецкая жизнь.