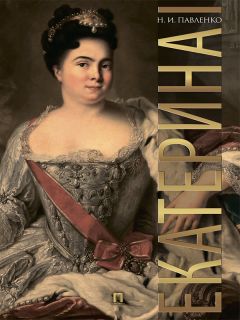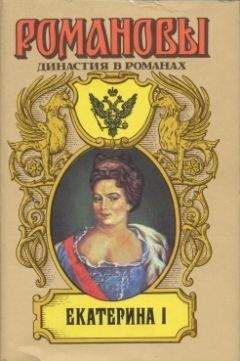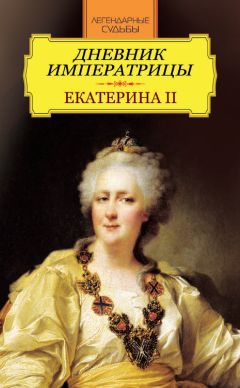Наоми Френкель - Дети
– Говори!
– Дело в том, что Эльза теперь не Эльза, а Цили. Вернее, Эльза в обычной жизни, и Цили – как звезда в искусстве.
– Что?
– Что слышишь. В трактире у Карлы Миллера, в Голубином переулке. Около Александерплац. Там она просиживает целые дни, словно зарабатывает у Карлы Миллера. Но это не так.
– А как?
– Он зарабатывает на ней, а не она на нем.
– То есть.
– Просто, Саул. Это большая выдумка. Карла на ней зарабатывает большой капитал.
– Он что, ее продает? – вскрикивает Саул. – Этот гадкий тип буржуазного вырождающегося мира.
– Он никакой не тип, он просто дурак, каких мало, но в отношении Эльзы проявил большую мудрость. Он даже ее не продал. Что еще можно у нее продать? Он сделал из нее большую артистку. Танцовщицу, Саул.
– Чепуха какая-то. Что вдруг Эльза – танцовщица?
– Почему бы нет? Она все еще красива. Бедра, ноги, и все остальное при ней. Карла снял для нее комнату на третьем этаже своего дома, и там каждый вечер собираются у него и у Эльзы все те, которые ему верны и не пойдут фискалить в полицию, и могут потратить десять марок, чтобы увидеть Эльзу в роли Евы. Я тебе говорю, Саул, совсем голой. Очень рекомендую посмотреть. Я могу тебя ввести к ней, Саул, за десять марок. Только не торгуйся со мной.
Лицо Саула покраснело, не только от мороза и ветра. Он продолжает идти, толкая велосипед. Изослечер бежит следом за ним, бежит и говорит. Дыхание его пресекается.
– Саул, что в этом такого? Десять марок это дорого? Что это для тебя?
– Иди своей дорогой, – кипит Саул, – продажная твоя душа.
– Почему? Что ты всегда чураешься девушек и всего, что с ними связано? Я тебе говорю, еще не придумали в мире ничего лучшего.
– Иди своей дорогой, сказал.
Изослечер вовсе не собирается идти своей дорогой, пока Саул не поделился с ним хлебом с колбасой «салами». Торопливо подпрыгивает мелкими шажками за Саулом и говорит, не умолкая, до того, что голос его уподобляется чириканью голодных воробьев под водостоками домов в утреннюю стужу.
– Саул, Саул, ну, подожди. Что случилось, Саул? Я знаю, знаю. Что ты сердишься из-за странных взглядов у вас в движении по поводу девушек. Никогда я не слышал, чтобы парень относился к половому вопросу так, как ты мне об этом рассказывал. Это относится к монахам и священникам. Погоди, Саул, чего ты бежишь, как сумасшедший? Я тебе говорю, ты умно сделаешь, если оставишь твое странное движение, и как можно быстрей. Саул! Погоди! Я не поспеваю за тобой! Что ты так бежишь? Я думал, что ты уже оставил это странное движение, и потому предложил тебе пойти к Эльзе. Это стоит сделать. Стоит! Не беги так, прошу тебя! Я был уверен, что ты уже оставил движение, и можешь пойти к Эльзе.
Саул останавливает велосипед, расстояние между ним и Изослечером сокращается. Остановился Саул не из-за Изослечера, а из-за стыда. Ему стыдно, что он открыл Изослечеру душу, рассказал о намерении покинуть движение. Изослечер единственный, который знает этот секрет. И выболтал ему Саул в минуту сильнейшего отчаяния, после великой ссоры с дядей Филиппом. После судьбоносной беседы в подразделении, дядя Филипп узнал о решении, пришел поздравить Саула и торжественно назвал его, не более, не менее, – «избранником». И этим вызвал гнев Саула, и он кричал в радостное лицо дяди, что никогда не поедет в Израиль, его вообще не интересует молодежная репатриация, и ни на какую усадьбу для подготовки к этой репатриации он не поедет. Дядя не особенно прислушался к этому решительному отрицанию, и сказал сухим спокойным голосом, что Саул еще как поедет на подготовительный курс, и, несомненно, репатриируется в страну Израиля. Скандал вышел большой. Саул выскочил из дома, дрожа от гнева. В переулке, у лип, стоял с ощущением внутреннего покоя Изослечер и читал объявление – «Опасно! Идет стройка!» Все вокруг выглядело столь жалко, столь безнадежно – пустая бетонная площадка, закрытый киоск Отто, ветер, бьющий по липам, и Саул не знал, что делать с собой, со своим отчаянием и гневом, и тогда обратился к Изослечеру.
– Иисусе, Саул. Я видел доктора входящим к вам, и ты выскочил оттуда ужасно сердитый. Что случилось? Ссора с доктором? Ты что, вышел из себя из-за этой высохшей селедки?
Саул успокоился и раскрыл душу Изослечеру. И вот это аукнулось предложением насчет Эльзы...
– Куда ты так бежал, Саул? Не начинай снова бежать. Я больше не могу. Куда?
– К Отто.
– Саул, я говорю тебе: Отто это хорошо. Отлично. Но... Сначала усладим душу. Отто в порядке, только слишком много говорит. А я голоден. Давай поедим.
– Нет.
– Саул, погоди. Я что-то забыл. Важное.
– Что ты забыл? Быстрей.
– Иисусе, Саул! Вылетело из головы. Когда я вышел из дома солдат армии Христовой, прошел мимо католической церкви и не перекрестился перед распятым Иисусом. Мне надо срочно вернуться туда. – Лицо Изослечера выглядит несчастным.
– Ты клерикал! Всю жизнь будешь тянуться за поповской рясой.
– Нет, Саул, нет, погоди, дело не в священнике, а в моей покойной матери, что учила меня разным пустячным обетам. Говорила: «Проходя мимо распятия, перекрестись. Если нет, заберет тебя преисподняя, и сгоришь ты там, в адском пламени». Ты должен меня понять, Саул.
– Иди с миром.
– Идем со мной, Саул.
Саул не намерен вообще отвечать Изослечеру на его просьбу. Он даже намеревается сесть на велосипед, несмотря на то, что шоссе покрыто льдом, и ехать по нему нелегко. Но Изослечер не дает ему двинуться, держится за велосипед.
– Не уезжай. Говорю тебе, не стоит этого делать. Ты еще не слышал о большом скандале, который разразился ночью в переулке.
– Скандал? У кого?
– Между Тильдой и старухой, матерью покойного Хейни.
Саул уже перекатил велосипед по другую сторону улицы, где высится католическая церковь.
– Откуда ты знаешь?
– Услышал у Флоры. Вечером зашел к ней нарубить дров для плиты, пропустить рюмочку и заработать гроши, чтобы оплатить койку на ночь в доме армии Христовой. Стою у раковины, мою посуду в горячей воде, Флора наводит порядок в кухне, и вдруг в кухню врывается Тильда, как злой дух, и осыпает проклятьями старуху, мать убитого Хейни. Как ты полагаешь, вчера старуха приходит с собрания в память сына, и Тильда встречает ее проклятьями, разве это не скандал! Уши вянут.
– Ну, рассказывай. Ближе к делу.
– Не дай Бог, Саул. Сначала надо перекреститься. Я пал духом от того, что забыл это сделать перед распятием. А когда я падаю духом, то рта не могу раскрыть. Верь не верь, просто не в силах это сделать.
Так, разговаривая, они доходят до подвала Ганса Папира. Над подвалом ветхая вывеска развевается на ветру:
Взлети же в небо, взмахни крылом,
Неси нам, птичка, радость в дом,
Пой нам, птичка, звучней, чем лира,
В магазине Ганса Папира.
Эта вывеска потеряла смысл: давно исчезли из подвала клетки с птицами. Давно Ганс Папир не зарабатывает на певчих птицах. Он теперь офицер в армии Гитлера. Девицы собрались у подвала Ганса и пытаются заглянуть в его комнату, хихикая и излучая симпатию.
– Сейчас Ганс выйдет, – уверенно вещает Изослечер, – увидишь, сейчас появится!
Но он не выходит. Только сердитый голос жирной госпожи Шенке вырывается в переулок:
– Драные кошки в вонючих платьях, убирайтесь от моего подвала! – Госпожа Шенке уже стоит на выходе, ее большие груди колышутся от гнева. – Кыш! Кыш! – Словно госпожа Шенке хочет вторгнуться своим огромным жирным телом в клубок хихикающих девиц. Они убегают. И Саул вежливо приветствует госпожу Шенке. Она ведь безмужняя, не вернулся он к ней, где-то проходит воинские учения в глубинах Германии, в войсках Гитлера, в подразделении под командованием Пауле. Таких безмужних жен сейчас в переулке немало.
– Она из наших, – говорит Саул Изослечеру.
– Из наших... Но, Саул, как ты можешь отрицать, что Ганс Папир жирует. Я тебе говорю, еще как жирует! Получает в месяц триста марок полноценной монетой, Саул.
Порыв ветра швыряет в них комки влажного снега. Оттирая лица от холодного снега, они вышли из переулка к липам, веревочному забору и красному фонарю, который уже погашен. По ту сторону лип – улица, ведущая к католической церкви. Раньше она была многолюдной, по ней сновали автобусы и трамваи. Сейчас рельсы покрыты глубоким снегом, так что даже следы их нельзя обнаружить, и только посреди улицы забастовщики поставили закрытый трамвайный вагон, чтобы преградить путь трамваям, ведомым штрейкбрехерами. На трамвае раскачивается плакат: «Позор штрейкбрехерам!»
На тротуарах много людей. Снег сминается ногами, и потому очень скользко. Черный пепел рассыпан на тротуарах и шоссе, чтобы можно было по ним двигаться. Улица расчерчена черными полосами по белому снегу, и из этих полос как бы вырастают тележки мелких продавцов, небольшие лавки, полицейские машины курсируют в обе стороны. Группы людей на каждом углу, а воздухе голоса, несущиеся со всех сторон.