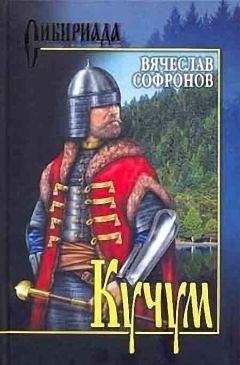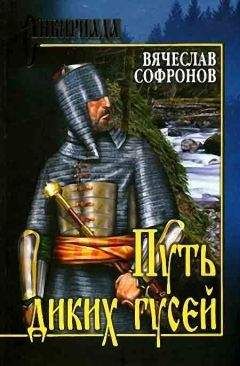Борис Дедюхин - Василий I. Книга 2
Льняная, золотая толстая коса лежала на прямой спине, на кубовой шубке, неподвижно, как примерзшая.
И не были щекотны мысли про березовых, голых, мятой паренных, про горячих, банных, с мокрыми волосами тяжелыми. Василий опустил глаза. Стыдно стало под прозрачным взглядом невестиным за этих впотай воображаемых женок, за то, что судорога шершавая в горле колола и заставляла князя морщиться, глядя вслед золотой косе на синей шубке, метущей снег рукавами.
Софья запахнула атласную стеганую телогрею с куньей опушкой, стиснула пальцами оторочку — мех жестким, как волчий, показался. Бусы из родного прибалтийского янтаря в несколько кругов — холодными.
10Данила был отходчив сердцем, снова весел, как осенний щегол, охотно балагурил. С Нямуной встретился так, словно бы и не было у него огорчений из-за нее, щипнул под локоток, спросил:
— Как Софья-то, переживает?
— А то-о! С тем платьем, в котором венчалась, помнишь, в Трокае, не расстается.
— Ну и что? Ну и правильно!
— Правильно-то правильно, да ушивать пришлось: похудела княжна от долгого ожидания свадьбы.
Данила хохотнул:
— Напрасно! Скоро енота придется расставлять.
Нямуна стрельнула зелеными глазами, замахнулась в шутку:
— Ну тебя, охальник!
Но не легкомыслен, однако же, был Данила, не бездумен: Нямуна — одно, с ней можно позубоскалить и рукам волю дать, а при Янге он почему-то робел.
Летом еще, как раз в то время, когда пришло с гонцом известие, что «великого князя Василия Дмитриевича бояре приехаша в Новгород из Немец со княжною Софьею с Витовтовою дщерью», заприметил Данила через окно своих боярских покоев Янгу и показалось ему, что как-то странно она себя ведет.
Она шла вдоль речки Неглинной, словно бы просто гуляя, но была беспокойна, тайком озиралась на стороны, как бы боясь преследователей или соглядатаев. Даниле захотелось узнать, что она затеяла.
Чтобы остаться незамеченным, пошел кружным путем, через Остоженку. Весной полая вода подходит здесь прямо к кремлевским стенам, а когда спадает, то выстаиваются богатые заливные луга. Теперь уж скосили их, уложили в стога сладко пахнущее мятой, донником, клевером сено, Данила не удержался, выдернул клочок, поднес к лицу — июльское, с ягодкой!.. Вблизи стогов и крестьяне поселились, потому и называется место Остоженкой, рядом совсем княжеские конюшни, для которых как раз сено и припасено.
Перебегая от стога к стогу, Данила вышел на берег Неглинной в том месте, где с шумом и скрипом крутились колеса водяной мельницы, гремели в бревенчатом амбаре жернова. Поток воды, шедший из пруда по желобу, обрушивался в корытца огромного деревянного колеса верхнего боя, которое неустанно и мощно крутилось, заполняя ровным гулом все окрест.
Янга стояла возле воды на песчаной отмели под ветками низко склонившихся ветел, задумчиво смотрела на вспененную и крутящуюся воду, которая, вырвавшись из заточения и круговращения, сейчас успокаивалась, приходила в себя после только что пережитой смертельной опасности.
Данила пробрался через заросли жгучей крапивы и дикорастущей конопли, встал за стволом самой толстой ветлы совсем близко от Янги. Думал, как объявиться — напугать или подшутить как-нибудь? Не собирался, конечно же, долго подглядывать да подслушивать, но сделал это противовольно, как только донеслось до него:
— Встану я, раба Божия Янга, благословясь, умоюсь водою, росою, утрусь платком тканым, пойду, перекрестясь, из избы в дверь, из ворот в ворота, на восток…
Данила понял, по Янга прокралась на пустой берег, чтобы в одиночестве сделать заклятие или примолвку, хотел было потихоньку же и уйти и уже шагнул в крапиву, но ожег руку и оступился. Янга чуть вздрогнула, оглянулась. Ничего не заподозрила, снова уставилась на воду.
На соль, на мыло, на кости мертвецов, на вино, на острый меч знал Данила наговоры, слышал, что и к солнцу, месяцу, заре, ветру обращаются люди в трудную минуту с заповедными словами. Янга, видно, надеялась на благодетельную силу возмущенной воды, но что — хорошее или дурное — будет наговаривать она на кого-то и на кого именно? Данила затаился. По первым же словам Янги понял, что это был заговор от него.
Млад младенец, не тумань,
Мы не в лесе, прочь отстань,
Не красуйся предо мной,
Не пьяни, как гул лесной.
Не буди в душе грехи,
Уходи скорей на мхи,
Уходи на зыбь болот,
Млад младенец, Старший ждет,—
говорила Янга воде страстно и истово, как молитву.
Даниле думалось, что он знает, от кого именно — от него — заговор, от какого искушения хочет освободиться эта странная худенькая отроковица с красотой неброской, но завораживающей, как голубой глазок льняного цветка.
Обжигая руки и лицо и не обращая на это внимания, он пролез ползком через крапиву, пробежал лугом к мельнице-мутовке и поднялся на плотину, а там уж пошел открыто. Казалось, и Янга была рада его видеть.
— Смотри-ка ты, избушка юрка, — показал он ей на висевшее у нее над головой на тонкой ивовой ветке гнездо, похожее на кошель. Ни один человек, видя домик юрка, не может удержаться от изумления: представить себе трудно, как эта махонькая ржаво-коричневая птичка с белым горлышком и серой уздечкой способна соорудить столь искусно и на редкость надежно жилище для своей семьи? Но Янга отозвалась почти равнодушно, с бледной, вымученной улыбкой:
— Не зря зовут ее первой пташкой у Бога.
Ему самому сказать бы ей что-нибудь ласковое, что сама, мол, она, как пташка Божия, невинная, но язык не ворочался, лежал во рту колодой распухшей. Данила и досадовал на себя, и умилялся, что делается с ним при виде этой девицы, не румяной, как красавице должно быть, не грудастой, не бокастой. Да и кому в ум вспадет похотно о ней подумать!
Белобрюхий дятел, держа в клюве еловую шишку, торопливо спускался задом по стволу. Данила обнял Янгу за плечи, молча показывая ей смешную птицу, коснулся пальцами подбородка, чтобы голову ей поворотить, и будто полетел на мгновение в черную яму, как в детстве, когда жеребец его в лоб саданул, мало не убил. Аж пот на висках проступил, рубаха на спине влажно прилипла, ровно пятерик муки Данила с мельницы на себе притащил.
Он, как ребенок, пал ей головой на плечо, чувствуя губами, как бьется теплая жилка у нее на шее, и, чтобы не впиться по-звериному в эту жилку, не заломить девку на руки к себе, как молодую березу, Данила, захрипев и слыша свой хрип, стал оседать на колени, на пятки, цепляя жадно бедра ее под скользким летником и пьянея от этого еще сильнее, тяжче.
— Данил ушка, что ты, голубчик мой, братец… — услышал он ее голос, печальный, увещевающий. — Не губи душу свою. Я жить не стану, если ты силой. И ты себе не простишь никогда. И Бог тебя не оправдает, когда придешь на суд к нему.
Данила мотал головой и задыхался, рвал пальцами молодой вязовый подрост, уйди, хотел сказать и не мог.
Прошелестело по кустам, будто ветер прошелся, и стихло. Данила открыл глаза — никого нет, будто во сне произошло с ним. Лишь на мокром песке — почти детские следы ее убегающих босых ножек с растопыренными пальцами.
Шум мутовинного колеса и грохот жерновов сюда не доносились. Стояла вязкая тишина. Не колыхнутся ветлы, и птицы затихли в тени листвы. Только гудят на цветах пчелы да стрекочут в траве кузнечики.
— Зной какой, — сказал Данила вслух. — Жарко…
Никто не отозвался ему.
С той поры, если встречались, всегда так (будто кого-то близкого похоронили), словно бы в сговоре были, словно бы имели общую тайну. А Данила — удивительное дело! — сам в ней словно бы какую-то опору стал видеть. Никому бы он не доверил того, что ей сказал — пожалился:
— Лихо мне, Янга, устал я, как лошадь… Вот здесь у меня болит, — он ткнул пальцем в грудь, где душа живет.
Они стояли вдвоем, нечаянно встретившись на подворье великокняжеского дворца. Хотя должны бы быть в эту пору трескучие морозы, вдруг упала оттепель, даже словно бы и дождик вместе со снегом вперемешку сыпался. Янга поймала губами холодные капли, прилетевшие с неба, засмеялась невесело:
— То ли дождик, то ли снег, то ли любит, то ли нет… — Тут же и посерьезнела: — Почему ты так говоришь — как лошадь? Если ты и конь, так ведь хорошо, весело скачешь, великий князь любит тебя…
— Я кнута боюсь, потому скачу.
— Неправда, Данила, наговариваешь ты на себя. — Голос ее был столь заботлив и участлив, что он и еще одну потайную дверцу души своей отомкнул:
— Знаешь, я только кажусь конем. Я даже и не лошадь, я — меск, ублюдок…
Янга метнула испуганный взгляд: слишком серьезными были услышанные слова, чтобы отнестись к ним шутя или хотя бы и с сочувствием, но не полным, что-то несказанное еще за ними крылось, и можно это несказанное узнать, только спроси — это чувствовала она своим женским сердцем, оно же и подсказало ей правильный выход.