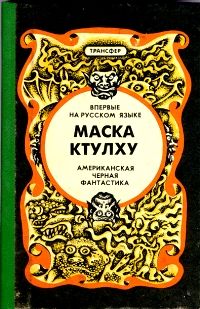Петро Панч - Клокотала Украина (с иллюстрациями)
— У панов сила, у них пушки, а мы кулаками орудуем.
— Э-э, знаешь ли, добрый человек, дружные сороки и змия посадят.
Гайчура сначала озадаченно замигал глазами, потом посмотрел на Кривоноса недоверчиво, нерешительно улыбнулся и, только когда на лбу разошлись морщины, кивнул головой.
— И посадят, посадят! Только скажи братам, что у нас все паны одной веры: не нашей. А за разумное слово — пусть тебе бог век продлит. Поешь кваску!
Кривонос даже улыбнулся в усы, заметив перемену на лице вожака повстанцев.
... Савва Гайчура когда-то пришел «на слободу», к пану Сенявскому. Тогда еще село Левухи, на Брацлавщине, было маленьким хутором. Прошло лет пятнадцать, в столб на земле, отведенной Гайчуре, был забит последний колышек, и «свободам» пришел конец. Гайчура должен был теперь отбывать барщину, как и все посполитые. Попытался он убежать снова куда-нибудь «на слободы», но не добрался и до соседнего хутора, как гайдуки Сенявского настигли его и, заковав в кандалы, привели назад.
— Что, хлоп, — спросил его дозорец, — надоело так работать? Будешь теперь в браслетах ходить. Дайте ему пятьдесят плетей на память!
Гайчуру потащили на конюшню и за то, что он стойко держался, ни разу не крикнул, еще добавили двадцать пять ударов.
— Пусть теперь жена подорожник кладет. Припекает, хлоп?
— Припекает, — сказал Гайчура. — Как бы и вам не стало жарко!
Хотя вся спина покрылась струпьями, Гайчура должен был ходить на работу. Он решил снова бежать, но однажды вечером зашел к нему сосед с новостью: пан Сенявский все свои поместья сдал на четыре года в аренду Важинскому.
— Теперь будут, верно, другие порядки заводить.
— Чтобы мы унию приняли?
— Об унии не слыхал. Собираются, говорят, мед варить, горилку гнать, скот откармливать.
— Нашими руками!
— Уж это так!
— Ну, пускай арендатор и работает, — сказал Гайчура. — На себя буду хоть день и ночь трудиться, а на пана пусть дураки работают.
— Э, разговоры! Попросись в гуртовщики: говорят, арендатор будет гурты перегонять, так, может, и бежать не захочешь. Оно ведь хорошо только там, где нас нет, а хлопам, видно, на роду написано, чтобы на пана работать.
— Не всегда так было.
— Теперь панов больше развелось.
— Паны тоже голыми родятся. А ты уже нанялся?
— И о тебе с приказчиком говорил.
Гайчура был поставлен погонщиком волов. Два раза в год длинные вереницы возов, запряженные серыми волами, с Брацлавщины ходили на Гданск. Кованые коломыйские возы были полны воску, меда, шерсти, сала, шкур и горилки. В Гданске приказчики Важинского набирали разных сластей, вина, сахару, фарфоровых изделий, тканей, железных товаров и все это развозили по ярмаркам.
На пасху Гайчура прибыл с обозом на Холмщину. В местечке Грубишеве была ярмарка. Издавна здесь стояли две православные церкви, но епископ холмский, насаждая унию, еще в пост выгнал попов, обе церкви перекрестил в униатские и опечатал. В пасхальную субботу к церкви на рыночной площади начали собираться мещане.
Обоз Важинского ночевал на заезжем дворе, напротив церкви. Увидев на площади людей, которые почему-то суетились у входа в церковь. Гайчура направился туда. Когда он вошел за ограду, горожане уже срывали печати и разбивали замки. Был тут монах, который ободрял толпу то стихами из священного писания, то длинной бранью по адресу униатов. Заправлял всем бондарь по имени Яцько Сухой. Сорвав печати, он бросил их на землю и открыл дверь. На колокольне зазвонили во все колокола, и толпа с монахом во главе вошла в церковь. Чтобы изгнать униатский дух, горожане принялись обмывать ризницу и стены. Сапожник Охрим схватил дары и, пританцовывая, стал втаптывать их в грязь. То же самое шорник Климко сделал с антиминсом [Антиминс – церковное покрывало с картиной, изображающей «положение Христа во гроб»], а землю, насыпанную униатами на гробницы, с бранью выбросил за дверь. Несколько горстей земли вынес из церкви и Гайчура.
Хор на клиросе все время торжественно пел молитвы.
Когда монах вышел уже в ризах из царских врат, чтобы начать службу божию, в церковь ворвались монастырские служки с келепами [Келеп – палица с металлическим обухом] в руках и католические монахи с дубинами и начали избивать горожан. Гайчура, оказавшийся здесь случайно, хотел было выйти из церкви, как вдруг один монах огрел его по голове дубиной. Он разозлился, схватил монаха за горло. Монах только подергал ногами и умолк, но на Гайчуру набросилось уже несколько монастырских служек и стали угощать его келепами.
Очнулся Гайчура только в тюрьме. В одной яме с ним сидели и бондарь Яцько, и сапожник Охрим, и шорник Климко, и еще человек двадцать горожан. Гайчуру горожане не знали, но по одежде видели, что он посполитый, и потому никто не был опечален его бедой. По их разговорам он догадывался, что все это кончится плохо и для многих горожан и для него.
— Унию принимать надо, — сказал сапожник Охрим, — и тогда на нас не будет вины.
— Чтобы черту душу продать? — впервые отозвался Гайчура.
— У черта и римско-католических душ хватает! — Сапожник подсел к Гайчуре ближе. — О тебе есть кому просить епископа?
— Кому же еще просить, как не жинке.
— Нужно, чтобы уроджоные просили. Пан у тебя добрый?
— Когда спит!
— Тогда только за деньги сможешь голову выкупить.
— Две гривны заработал за зиму.
— Это и на мизинец не хватит. Плохо, человече, разве только уния спасет.
— Ты мне об унии не говори, а то у меня кулак смерти не ждет, разок стукну — и готово. Добрые кулаки!
— Если бы и голова такой была, можно было бы рискнуть, — и Охрим таинственно подмигнул.
... Приговор люблинского трибунала объявили подсудимым только после жатвы. Бондарь и сапожник были приговорены к сожжению; Гайчуре и шорнику присудили отрубить головы. Прочие горожане должны были выкупить свои головы у епископа по сто гривен и возвратить униатам церковь.
Бондарь Яцько, наверно, не ожидал такого страшного приговора — он побледнел, икнул и словно проглотил язык. А сапожник только выругался. Гайчура молча кусал кончики усов и напряженно думал над словами сапожника.
На другой день к осужденным пришел кафедральный проповедник. Первым упал перед патером на колени сапожник Охрим и начал отбивать поклоны.
— Согласен ли ты, грешник, отречься от схизмы и пристать к святой унии с римской церковью? — спросил проповедник.
— Согласен, отче, помилуйте!
Среди осужденных поднялся шум, они с кулаками бросились на Охрима.
— Кто еще согласен стать на путь праведный и уготовить себе царствие божие? — поднял крест проповедник.
Наступила тишина. Вдруг Яцько-бондарь полез на стенку и закукарекал петухом. Гайчура, не глядя ни на кого, пробормотал:
— Я тут посторонний, я с Брацлавщины.
— Отрекаешься от схизмы, грешник?
— А разве без этого нельзя? Вон, видите, бондарь уже на стопку дерется.
— Принимаешь унию? На колени стань, быдло!
Гайчура засопел, будто тащил воз, и опустился на одно колено.
— А меня отпустят?
Проповедник завернул крест в епитрахиль.
— Вы должны завтра прийти в ратушу с женами и детьми. Оденьтесь по-праздничному, а сверху прикройтесь рубищем.
— А если на мне рубаха рванее рубища, — сказал Гайчура, — может, ее сверху надеть?
Проповедник исподлобья зло сверкнул глазами.
— Делайте так, как приказал преподобный отец епископ! Из ратуши со свечами в руках по двое пойдете через весь город к церкви святого креста. Там вас встретит перед оградой отец архипресвитер; упадите на колени, а когда спросит: «Кто вы, откуда пришли и чего хотите?» — скажите, что вы овцы, непослушные своему пастырю, но теперь, покаявшись, вы пришли просить очищения от схизмы и принятия в унию. Когда отец архипресвитер отпустит ваши грехи, тогда только вы будете приняты в унию, а святой отец епископ похлопочет, чтобы с вас сняли провинность. Вас же, окаянных, — сказал он остальным, — ждет на том свете геенна огненная!
Бондарь Яцько собакой подвывал ему в тон.
Гайчура сбежал, как только его привели в ратушу. Зиму скрывался на хуторах, а весной расспросил дорогу в лес.
Он не стал обо всем этом рассказывать Кривоносу, и другие не знали этого, как не знали, почему дядько Савва так ненавидит униатов.
VII
Проводив казаков, Ярина возвратилась на хутор. Отец и Христя ушли уже в поле, и она на всем дворе осталась одна со своими беспокойными мыслями. В светлице Ярина впервые с любопытством оглядела себя, стыдливо провела горячими ладонями по тугой груди, подымавшей белую сорочку, томно потянулась. В жилах глухо стучала кровь. Колени подкосились, и она опустилась на пол, запрокинула голову и закрыла затуманившиеся глаза. В ту же минуту перед ее взором встал образ Максима. Он не был так красив, как Остап, но сколько ласки в его глазах, в его речи! А как ловко действует он саблей, какой сильный! Ярина даже вздрогнула. И этот рыцарь станет ее мужем, ее защитником. Чего еще можно желать? Но вместо радости почему-то вдруг стало так грустно, что она печально запела: