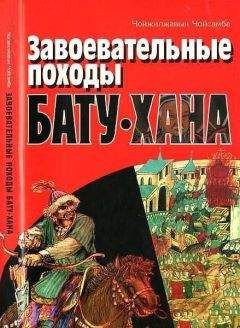Лев Никулин - России верные сыны
Он происходил из так называемой «серой шляхты», из крестьян, сумевших доказать свое шляхетское происхождение, и мальчиком был взят в услужение в замок Грабовских. Гувернер молодого графа обратил внимание на способности мальчика к наукам. Стефан Пекарский вырос в замке, он сопровождал молодого графа за границу, как его секретарь. Пока граф искал развлечений в Париже, — его секретарь искал источники знаний и находил их в парижских книгохранилищах.
— С какой жадностью я читал труд Рейналя «Философская и политическая история о колониях и коммерции европейцев». Я заучивал наизусть: «Народы порабощенные мечтают об освободителе… Будете ли вы настолько безумны, чтобы предпочитать рабов свободным людям!» С наслаждением читал я Монтескье, де Лольма, Векария…
Можайский слушал Пекарского и думал о том, что эти же книги заронили в его сознание мысль о преступности самодержавной власти, пробудили стремления к вольности и добродетели.
— Руссо был моим божеством, — продолжал Пекарский, — но помню, меня смутила мысль Руссо о том, что королю Станиславу-Августу следовало бы отрубить голову за измену своему отечеству. В том кругу, где я рос, имя этого короля произносили уважительно. Но вот я стал размышлять о том, как повел себя король в 1791 году, и увидел воочию этого фаворита Екатерины, вознагражденного за любовные заслуги польской короной, и возненавидел Станислава-Августа и его покровительницу. Я не стал открывать эти мои мысли графу Грабовскому. Однажды он искренне удивился, когда я сказал ему, что неравенство умов происходит не от того, что он родился графом, а его слуга — крепостным, а от разницы в образовании. Граф расхохотался, но все же задумался. Я читал ему историю Рима, и он был очень удивлен, когда услышал, что братья Гракхи полагали, что закон должен определить то количество земли, которым дозволялось бы владеть патрицию… Однако этот польский патриций был не из худших. Он внимательно слушал рассуждения Мабли о жизни древних греков под игом деспотов и сравнивал Грецию тех времен с нашей родиной, страной, лишенной свободы, где не было ни законов, ни добродетелей.
День был теплый, весенний, солнце уже садилось за лесом, в карете было душно, хотя оба стекла в окошках были опущены. Карета приблизилась к реке, через которую был переброшен ветхий деревянный мост. Пекарский вдруг замолчал и, высунув голову в окошко, всматривался вдаль. По ту сторону моста к реке спускались всадники и тяжелый открытый экипаж, запряженный шестеркой. Карета Можайского была у самого моста, когда всадник в оранжевой и голубой ливрее проскакал через мост и, поровнявшись с каретой, крикнул вознице: «Стой!» Можайский удивился, а потом побледнел от гнева. Его карета успела бы миновать мост, тяжелый, запряженный шестеркой экипаж был еще далеко. Если бы обстоятельства не вынуждали Можайского избегать ссор, он бы проучил и лакея и его барина, но Пекарский крепко сжал руку Можайского и грустно усмехнулся. Стоило ли затевать спор с надменным глупцом, отправляющимся в дорогу с дюжиной слуг.
Экипаж, наконец, спустился к мосту. Три всадника, одетые в зеленые кафтаны псарей, ехали впереди экипажа. Откинувшись, сложив руки на животе, в экипаже полулежал дородный старик в оранжевом жупане. Против него, на сиденье, лежали охотничьи ружья. Можно было с уверенностью сказать, что пан ехал на охоту, по времени можно было охотиться на глухарей и тетеревов. Весь гнев Можайского пропал, когда он разглядел жирное, лоснящееся лицо вельможного пана, с закрученными, подкрашенными усами, выпуклые, точно стеклянные его глаза. Челядь пана ехала в десяти шагах верхом и в бричке, нагруженной всякой кухонной утварью. Можайскому стало смешно, когда он подумал, что весь этот торжественный выезд затеян ради того, чтобы пан подстрелил из собственных рук тетерева или злосчастного глухаря. Но Пекарский не смеялся.
— Этот напыщенный старый дурак где-нибудь в Вене ползает перед камердинером князя Лихтейнштейна или графа Тюргейма. А здесь — он гроза обнищавшей шляхты и мучитель своих крестьян. Вот эти люди погубили дело Костюшко! — с яростью сказал Пекарский. — Мархоцкий говорил вам обо мне, как о верном друге Тадеуша Костюшко. Это правда, я был с генералом в радостные дни, когда Тадеуш на Краковском рынке принес присягу — до конца жизни защищать отчизну. У нас было мало войска, только то войско, что привел с собой из Варшавы Мадалинский. Однако на минифест Костюшко отозвался народ и не одни шляхтичи, но громада крестьян из-под Кракова. И не шляхта, не войско, а вооруженные косами крестьяне нанесли поражение неприятелю под Рацлавицами. Да, победили крестьяне! Клянусь! Я был возле Костюшко в день победы. Он стоял веселый, радостный в своем светло-сером кафтане, ветер развевал его волосы. Я буду вечно помнить его горящие глаза и счастливую улыбку, его окружал народ В белых чамарках, то был праздник победы… С того дня прошло целых двадцать лег, пошел двадцать первый год…
Он умолк, и Можайский не прервал его молчание. Он не понимал, отчего встреча на дороге с глупым паном напомнила Пекарскому то, что было двадцать лет назад под Краковом.
— Я заговорил об этом потому, что именно эти глупцы не позволили Костюшко осуществить его заветную мечту — освободить польских крестьян с землей, а он хотел этого всем сердцем, всей душой великого патриота! Было время, двадцать лет назад, когда я думал, что универсал Костюшко, данный им в Поланце, искупает все вины магнатов и шляхты перед народом. Помилуйте, крестьянин, хлоп, которого в недавние годы шляхтич мог убить, как собаку, этот хлоп объявлялся лично свободным. Отныне крестьянин находился под покровительством законов, суд решал его тяжбы с помещиком, уменьшались повинности крестьян, и будущее правительство должно было решить вопрос о земле… Да, крестьянин был свободным, но только до тех пор, пока воевал в войсках Тадеуша. Между тем из деревни приходили вести, что семья хлопа в прежнем угнетении, что помещики не выполняют статей универсала, и крестьяне покидали войско и расходились по домам. Ни конституция 91 года, ни Поланецкий универсал не дали крестьянам землю и свободу. Вельможные паны с их сотнями тысяч крепостных в Польше, Литве, на Украине — Чарторыйские, Радзивиллы, Сангушко, Сапеги, Тышкевичи — думали только о том, чтобы сохранить свои владенья под властью ли короля прусского, или императора австрийского, или русского!
— Вы были до конца с Костюшко? — спросил Можайский.
— До самого конца я был с генералом, я был с ним в злосчастный день битвы под Мацеовицами. Наша пехота была рассеяна казаками, канониры не оставили орудий и стреляли, не имея прикрытия… Казачий полковник Денисов нашел тяжело раненого Костюшко. Он лежал на голой земле, истекающий кровью, дрожа от холода. Полковник Денисов приказал постелить несколько казачьих плащей, положить на них генерала и прикрыть плащами. Потом Денисов спросил у Костюшко, не нужно ли ему чего. «Ничего не нужно», — ответил генерал. И тогда казачий полковник сказал: «Я знаю вас, генерал, как великого человека и готов оказать вам всякую услугу». Костюшко ответил: «Я тоже знаю вас, полковник Денисов». Он знал полковника как храброго воина. Казаки перевязали раны Костюшко платками, сделали из дротиков носилки и понесли в лазарет. Все это было на глазах у меня.
Голос Пекарского дрогнул…
Когда стемнело, они остановились в деревне, в доме сельского войта. Надо было дать отдых лошадям, потому что почтовые лошади были куда хуже купленных Можайским у встретившегося барышника и не было смысла ехать на почтовых.
Поужинав молоком с медом и гречневыми пирогами, они вышли из избы и некоторое время молча стояли под вековым дубом у часовни. Взошла луна, и ветхие домики деревни в сиянии луны, широкая сельская улица напомнили Можайскому родину, Россию. Вероятно та же мысль о России пришла в голову его спутнику, он заговорил о русских деревнях и селах, которые ему довелось увидеть, когда ссыльных поляков везли в Сибирь.
— Нас везли сначала мимо русских, потом татарских селений, мимо уральских городов. Русские женщины со слезами глядели на нас, закованных в цепи, выносили нам молоко и хлеб, осеняли крестом. Мы были офицеры, дворяне, у нас были свои, хоть и жалкие, привилегии… Тяжко было видеть, крестьян, которых гнали в Сибирь с женами и детьми. Они поднялись на защиту родины по зову Костюшко и понесли наказание более жестокое, чем их господа. Но и мы терпели оскорбления и грубость наших стражей, мерзли в непривычном, суровом климате. Я был молод и силен, мечтал о побеге, но чем дальше нас везли на восток, тем меньше было надежд на побег. Я понял, что беглец обречен на гибель в непроходимых лесах…
Вокруг было тихо, ни одного огонька, люди спали, чтобы подняться с рассветом и выйти в поле. Временами только слышалось ржание коней, бряцанье уздечки. Пекарский говорил чуть слышно, почти шёпотом:
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)