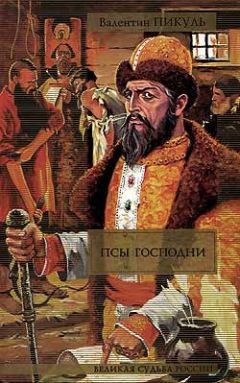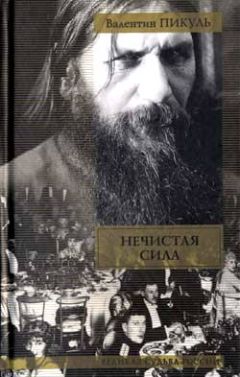Валентин Пикуль - Янычары
Екатерина приняла грузинского посла князя Герсевана Чавчавадзе (это дед Нины Грибоедовой); теперь, после страшной трагедии Тифлиса, грузины не просили о покровительстве, согласные навек воссоединиться с Россией, и Екатерина — сразу! — послала войска, чтобы «восстановить мир и спокойствие». Дербент, Шемаха, Ленкорань (и Баку, конечно) считались воротами в Персию. Когда эти «ворота» заскрипели, уже отворяемые штыками русских солдат, Ага-Мохаммед-Каджар быстро занял Шемахинское ханство, откуда призвал Дагестан и Чечню к газавату — священной войне против русских (вот, кстати, откуда и началась будущая кровавая эпопея имама Шамиля и его мюридов). Русские солдаты штурмом взяли Дербент, они топали уже на Баку, но…
Осенью 1796 года скоропостижно скончалась Екатерина Великая, и насколько блистательно и феерично было начало ее царствования, настолько печально и даже убого было ее увядание. Громкая эпоха «екатеринианства» закончилась — на престол взошел ее сын Павел I, который, боясь испортить отношения с Англией, дружественной Персии, велел русским войскам отойти назад.
Османская империя в эти события на Кавказе не вмешивалась, ибо султан был всецело поглощен другими заботами, о чем мы и расскажем, но жестокая хронология, этот главный ускоритель истории, принуждает меня обратиться к Франции.
Якобинская диктатура раскручивала маховик массовых репрессий. Если улик против человека не находили, его все равно объявляли «подозрительным» — и тащили на гильотину. Робеспьер и его подручные, желавшие кровопролитий, еще не сознавали, что этот кровавый молох, убивающий «врагов народа», скоро оторвет головы и тем, кто любил называть себя «друзьями народа». Диктаторы уничтожили даже Академию, чтобы ученые не смели выделяться из общества, ибо этим нарушался принцип «равноправия». Все старое должно быть разрушено, чтобы на его развалинах созидать не только светлое будущее Франции, но и всего Человечества, — так провозглашали они на стогнах Парижа. Богатых быть не должно — пусть отныне все станут бедными, зато верующими в их идеалы. Имущество людей было поставлено вне закона, зато санкюлотам Парижа платили по 40 су в сутки — за их умение высиживать на собраниях, где им проповедовались самые правильные «принципы» (свободы, равенства и братства).
Я, автор, хорошо понимаю причины, породившие Французскую революцию, но, мне думается, не было причин превращать Францию в общественную «живодерню». Революцию во Франции делали все-таки не французы, а только санкюлоты Парижа, и вся Франция не могла думать так, как думали санкюлоты, возлюбившие сорок су за присутствие на собраниях и митингах.
Франция объявила войну… Парижу.
Париж объявил войну… Франции!
Вандея всем известна! Но мало кто знает, что в этой провинции Робеспьер указал сжечь не только дома и заборы, но даже леса, велел убивать даже скот, собак и кошек… как тут не вспомнить помешанного Ивана Грозного, который, убив людей и животных, никогда не забывал спустить из прудов водичку, чтобы передохла и вся рыба!
Инакомыслящие во Франции расстреливались. От массовых расстрелов, желая разнообразить сцены убийств, якобинцы скоро перешли к массовым затоплениям. Жителей городов, не согласных с принципами Парижа, заколачивали — вместе с детьми — в речные баржи и, прорубив их днища, топили на глубине. Фантазия палачей, как доказал опыт истории, неисчерпаема. Якобинцы додумались связывать мужа с женою веревкою и бросали их в воду (этот вид смертной казни именовался даже игриво — «республиканская свадьба»). Когда же восстал Лион, богатый и дивный город, против него послали целую армию. Всех жителей истребили (опутанных веревками, их расстреляли картечью из пушек), все здания Лиона взорвали порохом, оставив лишь жалкие лачуги нищих, а потом с небывалым цинизмом переименовали Лион в «Город Свободы», который и лежал в руинах и трупах… Вот вам «свобода»!
Европа ужасалась, но Европа и глумилась над Францией.
Разве так уж нужно для процветания свободы свергать древние памятники, зачем осквернять народные святыни, не глупо ли старинным городам и улицам присваивать новые названия, всем чуждые? Якобинцы запретили отмечать воскресные дни и праздники, взамен которым придумали позорные капища, почти языческие, где роли «богинь разума и скромности» играли уличные проститутки. Наконец, глупцам казалось, что приказом свыше можно одним махом ликвидировать старую веру в бога, чтобы народ обратился в новую веру.
Робеспьер, тщеславный и недалекий человек, издал декрет, гласивший, что религия вообще отменяется, а вместо нее учреждается новая «религия разума». При этом он сам объявил себя «Высшим Существом», и в уличной процессии предстал перед народом, как божество, охотно воспринимая похвалы публики, и даже не догадываясь, что все это было уродливым фарсом, разыгранным от нехватки ума и полной деградации скромности…
Примерно такой (лишь примерно!) была голодная, запуганная, окровавленная и все-таки побеждающая Франция, когда начиналось быстрое выдвижение Наполеона Бонапарта. О чем он думал тогда, о чем смел мечтать? Читатель, наверное, будет удивлен: Бонапарт грезил о… Египте (уже тогда!), говоря близким:
— Европа — это затхлая крысиная нора, и только страны Востока еще таят в себе неразгаданные пространства, а шестьсот миллионов ждут смелых завоевателей.
Кстати, он не валялся бесхозным — приходи и бери!
Египет был давней (с 1517 года) провинцией Османов, он платил дань султанам Турции, которые слали в Каир своих наместников-пашей, а чтобы паши не вздумали сами сделаться султанами Египта, Порта делила их власть с мамелюками — это были преторианцы, очень схожие с янычарским сбродом Константинополя; и как янычары не раз душили своих султанов на берегах Босфора, так и мамелюки не раз резали и травили своих пашей на берегах волшебного Нила…
Селим III правил империей уже пять лет, желая спасти ее от гибели, осведомленный в том, что дипломаты Европы говорят о Турции не иначе как о «больном человеке», после смерти которого можно смело приступать к дележу гигантского наследства.
Селим III хлопнул в ладоши:
— Исхак-бей… пусть войдет!
20 лет назад Исхак не был еще беем, и, пойманный на мелком воровстве, бежал во Францию, где нахватался верхушек знаний из жизни Европы, чем и приобрел дружбу Селима, когда вернулся домой, а Селим еще не был султаном. Потом Селим, уже ставший султаном, снова послал Исхака в Париж — с письмом к королю, и с ответным письмом Людовика XVI он вернулся на корабле, на котором плыл в Турцию граф Шуазель-Гуфье… Исхак вошел.
— Сядь, — разрешил султан. — Кого мне бояться?
— Только не революции во Франции, — торопливо заверил его Исхак-бей, — она чувствительна для наших греков или сербов, но только не для нас. Французы решили измерить глубину колодца, для чего и бросили в него своего ребенка.
— Оставь! — сказал Селим. — Разве бесплодной женщине дано знать о муках деторождения? Тебе ли, нищему с деревенского базара, судить о столичных ценах на розовое масло?
— Прости, о великий султан, — повинился Исхак-бей. — Ты меня мудро спросил — я очень глупо тебе ответил…
— Конечно, — продолжал Селим, думая о своем, — сирота вынужден сам обрезать свою пуповину. Так и французы… Но ты боишься ответить мне — кого мне бояться?
Сказать Султану, что он способен кого-то бояться, на это смелости у Исхака не хватало. Селим, не вставая с дивана, ударил его длинным чубуком, сковырнув с его головы тюрбан:
— Трус! Мне могут угрожать только ени-чери…
«Ени-чери» — так в турецком произношении звучало грозное слово «янычары». Турецкий дом был слишком громадным для турок и слишком тесен для тех, кто насильно был помещен под турецкою крышей: арабы, славяне, румыны жаждали строить свой дом. Реформы были необходимы — следовало сначала укрепить централизацию власти, чтобы кровообращением великой страны управляло одно сердце — сердце султана. Понятно, что без реформ Турция обречена, и Селим III уже давно провозгласил «низам-и-джедид», что означало «новый порядок». Однако провозгласить начало реформации легко, а как подступиться к преобразованиям в стране, если в этой стране никто перестраиваться не желал, ибо какая же лягушка скажет, что ей надоело ее любимое болото?..
— Уходи, — сказал султан Исхаку. — Не терплю трусливых.
Но, выслав трусливого, Селим остался наедине со своим страхом, который давно угнетал его. Что бы ни замышлял султан для блага Турции, его новшества всегда грозили возбуждением в янычарских казармах, а на Эйтмайдане, где раздавали мясо, янычары уже не раз переворачивали котлы — верный признак близкого мятежа… Селим сказал султанше Эсмэ:
— У нас легче всего расправиться с женами гарема — зашей любую в мешок и топи, когда стемнеет. Нельзя тронуть только янычар и стамбульских собак, которых мы, турки, считаем священными, как в Индии боготворят своих коров…