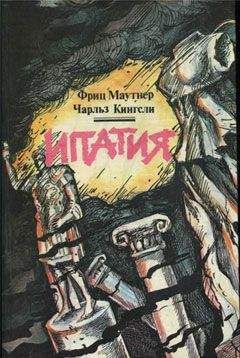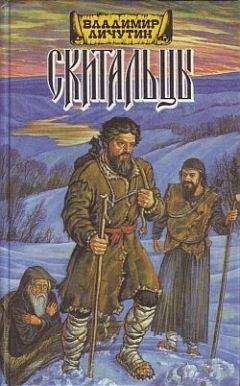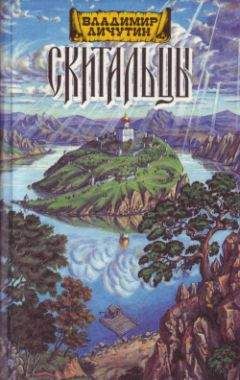Владимир Личутин - Скитальцы
– А ты чей? – внезапно крикнул Елизарий и пристукнул посохом.
– Я бог, а царь царям, – торопливо отозвался Симагин.
– Да не тебя пытаю. Он-то, попутчик твой, откудова? – Елизарий перстом указал на Доната.
– Скиталец я, отче! Беглый! Лишний на сем свете и к вам бреду. Уж не чаял и сыскать. А родом с Помезенья, слыхали, нет? С Помезенья, с Гандвика, со студеного моря... Донат я, Донат Богошков, сын Калины. Не гони-те-е! – Донат упал на колени, отчаянно приложился лбом оземь, неведомая ранее смертная тоска обротала его. Сердцем воспринял скиталец, что не монастырская стена будет преградою, но вот эти двенадцать старцев. – Пустите или убейте. Отчаялся я, отчаялся-я-я, Господи. Внемлите твари ничтожной! Вы только возьмите меня, оприютьте, за раба буду. Я все могу: и посуду речную шить, и утварь какую по нужде, и по мебелям мастер, и образа мазать, и хлебы печь, и шти варить. И по меди могу, и по железам. Возьмите-е, Господа за-ради.
Волненье охватило Отца, и кровь загорелась. Неожиданный зов неведомой, но, оказывается, незабытой родины и через двести лет проник в затворы. Но Елизарий не успел возразить иль ободрить скитальца, как монахи, насовещавшись, вновь построились стенкою и самый нажившийся, согбенный отец Виталий проскрипел:
– Вот он хвалится – он бог! Ежели бог, пусть пройдет по воде, аки по суху!
И все засмеялись торжествующе, ибо они знали верно, что если Бог явится к ним, то он не станет взывать о себе, но каждый увидевший его распластается ниц. А вокруг чела самозванца ни малейшего сияния и даже намека. Нечесаный, дикий, жутковатый человек в шаманьей шапке юродствовал на том берегу и, еще не достигнув благодати, уже чем-то угрожал старцам и пытался владычить. Зло от него ощущалось даже через протоку, и, если бы иноки могли и умели распоряжаться чужою жизнью, они, пожалуй бы, умертвили пришельца. Но Беловодье уже двести лет не знало смертной казни.
– Гордецы! Пересмешники! Я земной бог, я устроитель счастья!
Иссиня-черный инок, стоявший чуть поодаль, не сводил взгляда с Симагина.
– Жди! И явимся! – крикнул он едва слышно. Все монахи согласно повернулись в его сторону, но не возмутились, не забранились, но, как бы забывши скитальцев, повернули в городище.
... И потом срубили часовню во имя Воздвиженья с большою трапезою, и противу всей трапезы паперть поставили и половину отгородили, и там печь огромную сложили, а другую печь под часовней, и образы большие написали иконники.
А потом скотние хлевы к зиме завели и огороду из жердья вокруг, и тут скот зиму пребывал. И хлебню построили, и портомойню, и кониный двор и начали зимою на конях бревна к воде возити, а плашье и тес к дому. И сироты, и клирошанки, и келейные жительницы, старые мнихи и дети малые всякий день в работе: мох рвали по болотам, носили и сушили, погреб копали, снег срывали, лес секли и плавили; и такой труд подняли – дивиться впору.
И построили в осень привратную келью, и поставили ограду новую в столбы и врата рубленные с озера надвое растворять. И еще тем же годом срубили амбар и под ним погреб для съестных припасов, рыбы, капусты и крошева; такожде и поварню, и возачью келью работникам и возчикам жить, и поставили швальню – швалям шить, и больницу, и грамотную; а такожде и десятичным, и всем трудницам, и постницам кельи; а такожде портную и чеботную, келью иконнику и казначею платенному, мастерскую медную; а такожде челядню и портомойную келью и молошницу и еще одну приворотную келью с полуночной стороны для приходу и свидания и для всяких братских нужд приходящих, для прожитья приворотниц и надсмотрщиков и караульщиков по чину; а такожде начали делать плотину и, собравши из братства множество работников, воду заперли и отвели в иное место и начали чистить ложе. Днем братия трудилась, а ночию отец Захарий с сестрами и стариками землю копали и носили камение, а после плотину начали рубить и засыпать землею. День и ночь работали, а под осень в ночи с огнями, и ко второй зиме сготовили плотину. И после, на четвертое уже лето, мельничный амбар поставили и колесницу с толстого леса, две толчеи сделали и два жернова устроили, и начала мельница добро работати, и после того к мельнице келию поставили двоежирную с сеньми и чуланами...
А когда выросла пу?стынь и сбились людишки в одно житье, уже не испытывая ни стужи, ни глада, и годы пошли друг по другу родящие и добрые, и хлеба-то насыпали амбары, и рыбы насушили и накоптили впрок, и мяса сохачьего навялили, и одежд теплых нашили из звериных шкур, и полотна наткали, – тут бы, казалось, жить да жить! Ан нет, пошел тихий раздор и странное своекорыстие, и начали скитники коситься друг на друга, куски считать: уж больно много мирского пришло в пустынь да и дало племя. «Что-то не так родилось, не так устроилось», – с тревогою решил Захарий, видя, как в монастырских стенах и дети малые пошумливают, отпугивают иноческий покой, а девки и парни, как стемнеет, бегают по кельям и ластятся друг ко дружке и тайные бесовские игрища ведут, отдаются плотским утехам. Пробовал Захарий преслушникам и ропотникам, лениво и слабо живущим работникам и батогами по филейным местам науку преподать, и долгим молитвенным покаянием застращать, но его же, Захария, душа и заболела.
И предложил Захарий на соборе всех мужиков и баб, кому нет сорока лет, всех парней и девок, у кого нет охоты к монастырскому затвору, заселить особой слободою подле пустыни, чтобы каждый вел свое хозяйство и чтоб семьи плодились и умножались на нескончаемую жизнь Беловодья. И кто семьями был, те сразу избы стали рубить себе и землю копорюгой пахать, и вся пустынь им помогала под крышу зайти, и первую утварь собрали, и живность ввели во хлевы. А молодые стали свадьбы играть, и много было веселья. И проросли избы по кругу, посолонь, как грибы после дождя, вдоль одной улицы, вздымаясь все выше и выше, ко взглавью. А годами после и мирскую слободу обвели второю стеною, неприступным тыном. И скоро украсилось Беловодье, и новое быванье дало обильные радостные плоды...
Медленной поступью ушли иноки в обитель и как в воду канули, словно бы оставили скитальцев помирать на чужом берегу. Старого дозорщика сменил молодой караульщик и в оконце охранной кельи просунул бердану; он отчего-то постоянно шевелил ружьецом, будто жгло оно руки иль не терпелось стрельнуть по незваным пришельцам. Он был молод, привратник, и удивление его пред чужими прошло скоро. Он видел, как томились странники за протокой от голода, и скоро подобрел, не заметив в них звериного лесового коварства; вышел на порожек, отломил от ситного каравашка горбуху и кинул бродягам.
– Шибко-то не ешьте, зажмет. Помаленьку кусайте. Оголодали, поди? – крикнул нерешительно, – наверное, полагал, что эти неизвестно откуда взявшиеся приблудники несут в себе чужой язык и не поймут его.
А Донату же почудилось, будто он вернулся нежданно в родные домы: своя, помезенская гово?ря донеслась с острова. «Бог ты мой, откуда взялся этот рыжеволосый конопатый парнишонко, стриженный под горшок?»
– Откуда ты? – спросил Донат торопливо, озаряясь просительной улыбкой.
Ему уже было стыдно за недавние мольбы свои, за слабость душевную. Что подумают про него люди добрые? Вот, скажут, не мужик, но байбак, недоделок, полоумный христопродавец, проливший невинной крови, иначе отчего бы так каяться и валяться в ногах?
– Не велено баять, – донеслось с острова.
Караульщик скоро исчез в келейке и повел на бродяг ружьецом.
– Ты зри, злодей, кто пред очию! Но-но, не балуй, нехристь! Карой покараю. – Досель валявшийся на траве полусонный Симагин, услыхав голос караульщика, тоже неожиданно воспрянул, вскочил на ноги и пристукнул посохом.
Смешон был сейчас бог и жалок – в оборванной сермяге, в облезлом лисьем куколе и полосатых портах. И так стыдно стало Донату за спутника, так неловко пред парнишонкой, что глазел из келейки... И впервые за долгую дорогу Донат не сдержался, одернул Симагина:
– Не порти дело, отец. Из-за твоего язычка крепко сядем.
– За-мол-чи!
– Ежели бог, дак поди по воде, аки по суху. Поди в городище и доложись, что мы оголодали. Ну, чего медлишь? Поди и доложись. Тебе и пуля-то не страшна, не пронзит тебя. Чего страшишься?
– У меня же мясо на кости. Кабы жиру оковалок, куда ни шло. Ты что, сдурел, мелешь-то неподобное? Ах ты тварь, ну и тварь же, прости Господи. Как я тебе пойду по воде, ежели на мне мясо с костьми. Я земной бог, я устроитель счастья. А то, про небо-то все враки. И год лети, десять лет – одна пустыня. За что зацепиться? Сам подумай. Больно за воздух-то удержишься, а?
– Загунь! Чирей на языке вскочит, – вдруг оборвал Донат грубо, почти ненавидя спутника за его лживый, изворотливый язык и непостоянство натуры.
Как червь под пятою: и так и эдак. Ежели ты бог, ты выкажи силу. Но ты языком лишь: бот-бот. Ботало, а не бог. «Помели мне языком-то, помели!» – угрозливо посулил Донат, уже страшась грядущего. Да и то: на карачках ползли, перемогались, как могли, думалось, и не дойти, сгинуть, аки последней никошной твари, но вот доползли. Так ты молчи, собака, не лезь с поганым языком. «Он бог, бог», – мысленно передразнил, все еще горячась, темнея взглядом. На последних минутах так легко нарушить все, разбить мечту, кою тешил долгие годы, пройдя сквозь страдания. «Да тут коли впоперечку пойдет, и рожу расписать мало, юшку пустить, пусть только заартачится», – мысленно пообещал Донат, и этой тайной угрозы хватило мужику, чтобы успокоиться.