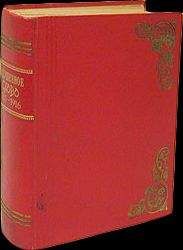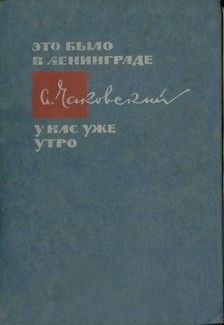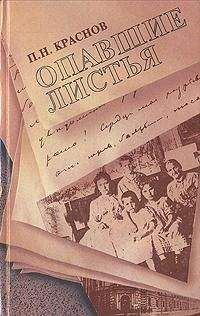Александр Чаковский - Лида
– Да мы уж помрём тогда! – прохрипел мальчик. Он слегка подтолкнул сестру: – Ну, двигай, что ли.
– Нет, ты возьми всё же адрес, – остановила я девочку. – Постой, я тебе сейчас напишу.
Я полезла в карман за карандашом и наткнулась на сухари.
Несколько секунд раздумывала… Да, я не сразу решилась… Потом отщипнула кусочек сухаря, не вынимая его из кармана.
– Ешьте, – сказала я, протягивая кусочек на ладони.
В ту же секунду мальчик схватил его и проглотил. Девочка не сделала при этом ни одного движения. Я отщипнула ещё маленький кусочек и дала девочке. Она посмотрела на брата и положила кусочек в рот.
– Через пять дней можешь приводить, – повторила я девочке, передавая адрес детдома. – Даже через четыре.
Она взяла бумажку, положила в карман и растерянно посмотрела на брата.
Отойдя несколько шагов, я обернулась. Девочка медленно, рывками тащила за собой сани, а мальчик шёл сзади, пошатываясь…
Ирину я на заводе не застала. Мне сказали, что она ушла в райком партии.
Я не знала, что мне делать: ждать ли Ирину и рисковать потерять ещё день или идти обратно. Но мне нужны были печки.
Я решила ждать. Спустилась вниз, в общежитие, и уселась на Ирининой кровати, под противоипритным костюмом. В комнате было холодно, печь давно не топили. Я смотрела на печку, маленькую железную печку, стоящую посредине комнаты. Вот такая-то мне и была нужна!
У меня начали мёрзнуть ноги. Я принялась ходить по комнате. «Очевидно, все девушки на дежурстве», – подумала я. И мне вдруг очень захотелось совсем не уходить отсюда: в этой комнате и с этими людьми я прожила полтора месяца, и каких! Вечерами мы были все вместе, и если кто-нибудь доходил «до точки», остальные приходили ему на помощь. «Трудно быть одной, когда тяжело, – подумала я. – Вот когда всё хорошо, можно и одной прожить, а когда тяжело – трудно».
Потом я подумала, что надо скорее написать Саше. Вдруг изменится адрес его полевой почты, а он и написать-то мне не сможет, потому что не будет знать моего адреса. Ведь он уверен, что я в армии! А я опять в Ленинграде. Не судьба мне, видно, расставаться с Ленинградом. А всё-таки я уеду, как только организую детдом. Добьюсь перевода в армию.
Я решила сейчас же написать ему письмо. Вытащила из кармана карандаш и бумагу. Пальцы мои настолько закоченели, что мне трудно было держать в руках карандаш.
«Саша, родной…» – начала я и вспомнила, что прошлой ночью мысленно написала ему хорошее письмо. Но сейчас не помнила из него ни одного слова.
«…Ну вот, всего два дня прошло с тех пор, как ты уехал, и, наверно, сейчас ещё добираешься до места на «перекладных». А я сижу у Ирины в комнате одна, только ты, Сашенька, всегда со мной. Ты, конечно, думаешь, что я уже в армии, но ситуация изменилась: меня пока оставили в Ленинграде и поручили организовать стационар для детей, оставшихся без родителей и без дома. Так что ты пиши мне пока в Ленинград, на адрес Ирины, я думаю, это будет вернее. Сейчас у меня масса хлопот…»
Карандаш вываливался из руки, до того закоченели пальцы. Я несколько раз быстро прошлась по комнате. Около Ирининой кровати стояла тумбочка, и я зачем-то открыла ящик. Там лежали какие-то бумаги, а поверх – портрет Григория, мужа Ирины, и сбоку – маленькое зеркало, коробочка пудры. Я открыла коробочку. Там была хорошая, довоенная пудра. Я опустила палец в пудру, провела по лицу и взглянула в зеркало. Розоватая полоска на моём обветренном и нечистом лице выглядела смешно и нелепо… Вспомнила: а ведь я и не умывалась сегодня! Потом рассматривала портрет Григория. Мы так часто проводили вечера втроём: Ирина, Григорий и я. Неужели этот человек больше не существует? А вдруг в том сообщении была какая-нибудь ошибка?
«Всё-таки я счастливее Ирины, – решила я. – Вот на столе лежит моё письмо Саше. Пройдут дни – и он получит его и прочтёт, а потом и я буду читать письмо, написанное его рукой».
Ирина должна была вернуться с минуты на минуту. Мне показалось жестоким писать при ней; я положила начатое письмо в карман.
Потом перед моими глазами снова проплыло лицо того мальчика. Я подумала: «А как же будет жить дальше такой мальчик? Как будет он смотреть на мир своими рано состарившимися злыми глазами? Да ведь у него уже морщинки на лице! Сколько радостей, сколько счастья должен испытать он в будущем, чтобы загладились эти морщинки и исчез волчий блеск в глазах».
Интересно, придёт он ко мне или нет? Через четыре дня. Но ведь у меня ничего не будет готово через четыре дня!
А Ирины всё не было. Я подошла к двери, открыла её, прислушалась. Было тихо, только из цеха доносились приглушённые вздохи парового молота. С каждой минутой я всё больше приходила в отчаяние. За это время я смогла бы сделать массу дел, по крайней мере комнату привести в порядок. А теперь будет уже темно, когда я вернусь. «А куда я, собственно, вернусь? – спросила я себя. – Разве у меня есть дом? Придётся ещё раз переночевать у Анны Васильевны», – решила я. У меня было такое ощущение, что я могу зайти в любой ленинградский дом, в любое место, где были люди, и заявить: «Я пришла к вам ночевать».
И я подумала: почему каждый раз, когда я остаюсь одна и у меня нет какого-то дела, от которого зависят судьбы других людей, меня начинает мучить ощущение бездомности и я с тревогой начинаю думать о том, что мне делать вечером и где я буду спать? Но как только у меня появляется такое дело, я уже не боюсь ночи и проблема ночёвки становится для меня какой-то отвлечённой.
Я случайно взглянула на противоипритный костюм, висевший на стенке, к которому я уже привыкла и как-то не замечала, и почему-то почувствовала раздражение. Чего он висит тут, зелёный и скользкий! Тоже украшение! Надо посоветовать Ирине снять его. Только я успела подумать об этом, как в комнату вошла Ирина.
– Ты не уехала? – удивлённо и радостно воскликнула она, увидев меня. – А я думала, что ты уже в армии.
– Не доехала!
И я рассказала ей всю историю с детдомом.
Ирина сидела на кровати, так и не сняв своей сдвинутой на затылок кубанки. Когда я начала говорить о печках, Ирина задумчиво покачала головой.
Я прервала рассказ, с тревогой ожидая, что же она ответит. При малейшем намёке на отказ с её стороны я бы не повторила своей просьбы; мы никогда не считались с ней куском хлеба, какой-либо вещью, но здесь речь шла о добавочном труде, а я знала, что сейчас каждый работал на пределе.
– Насчёт печек надо поговорить с Никанором Семёновичем, – проговорила наконец Ирина.
Я не сразу сообразила, что речь идёт о том самом парнишке, которого я встретила у неё.
Никанора Семёновича мы застали в конторке. Он не сидел на стуле, а стоял на нём на коленях и рассматривал какой-то чертёж.
Когда мы вошли, Никанор Семёнович медленно слез со стула, подвинул на затылок прожжённую во многих местах будёновку и сказал, кивая на чертёж:
– Чего-то я не разберусь тут, Ирина Григорьевна, больно долго ты ходишь.
– Сейчас разберёмся, Никанор Семёнович, – сказала Ирина, и мне опять стало непонятно, как это она может разговаривать с этим мальчиком всерьёз, даже без тени улыбки. – Вот Лиде нашей печки нужны, – продолжала Ирина, – ей детдом поручили организовать. Как бы ей помочь?
– Какие печки-то? – спросил Никанор Семёнович, но в эту минуту кто-то позвал Ирину из цеха, и она вышла, сказав:
– Ну, вы тут договоритесь.
– Что за печки такие? – повторил Никанор Семёнович, обращаясь уже ко мне.
– Да самые обыкновенные, ну, «буржуйки», – поспешно ответила я. – Хоть три или даже две на первое время. Через три дня начнут приводить детей, а в комнате иней на полу.
Никанор Семёнович глубокомысленно сдвинул свою шапку ещё дальше на затылок.
– Придумайте что-нибудь, Никанор Семёнович, – попросила я, хоть за минуту до этого не знала, как мне звать этого мальчика, на «ты» или на «вы».
– Железо-то найдётся… Сейчас обсудим, – деловито сказал Никанор Семёнович и вышел из конторки.
Он вернулся в сопровождении трёх подростков, сел на стул и проговорил:
– Ну вот, ей печки нужны. Сколотите, что ли, комсомолия! А то там у неё ребята замёрзнут.
Несмотря на то что решался очень важный для меня вопрос, я не могла удержаться от улыбки. Мальчик говорил с ребятами тоном старшего, опытного мастера.
Они сосредоточенно молчали.
– Вы помогите мне, ребята, – попросила я. – Через три дня привезут детей, а холод у нас лютый.
Нет, я была никудышным агитатором. Но мне как-то странно было уговаривать детей сочувственно отнестись к детям. Со взрослыми мне было бы легче говорить об этом.
– Там железо-то есть, – продолжал Никанор Семёнович после длительной паузы и ни к кому специально не обращаясь. – После смены постучали бы часок, а то и впрямь ребята замёрзнут.
Тогда один из ребят, в высоких, явно с отцовской ноги, валенках, сказал:
– Ладно, собьём!
Потом все, кроме Никанора Семёновича, гурьбой вышли.